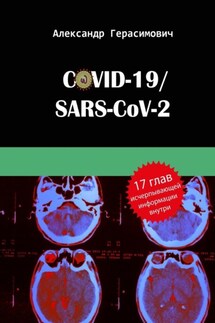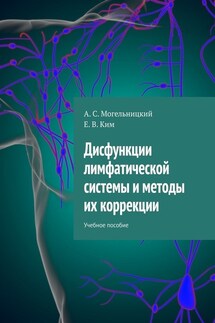Записки врача неотложной помощи. Жизнь на первом этаже - страница 7
Это «раскручивание» можно узнать по особым признакам. Мой друг Брайан называет способность мгновенно распознать тяжело больного человека среди сотни других «чутьем». Словно какой-то датчик на энергетическом уровне показывает, что стройная, идеально отлаженная система организма распадается на части. Это нельзя описать словами. Это можно только увидеть в глазах человека или в его поведении. Первое, что ты видишь, – это страх, инстинктивное осознание того, что баланс нарушен, и нарушен бесповоротно; то, что всегда держалось внутри, словно в сосуде, стремительно утекает и скоро исчезнет совсем.
У некоторых это чутье есть от природы, но ему можно и научиться. Это дело небыстрое: сначала частички тканей настолько крохотные, что в учебниках нельзя даже разместить их фотографию, приходится рисовать; потом тонюсенькие слои окрашенных в красный цвет больных клеток на предметном стекле, потом плавающие в формальдегиде сердца после инфаркта (клапаны оттянуты с помощью булавок, чтобы было видно паутинку разорванных сухожилий); потом целые тела, распластавшиеся под ярким белым светом анатомического зала. Сначала то, как все в организме связано воедино. Потом – как все это распадается на части.
Нам не терпится побыстрее начать работать с живыми пациентами, мы месяц за месяцем посвящаем этой цели все свои мысли и дела. А потом наступает день, когда мы остаемся в больнице на ночные дежурства, но первое, что нам доверяют, это заниматься умершими. Ведь тут уж наверняка, что бы врач ни делал, хуже человеку уже не будет.
Я лежал не смыкая глаз, как и любой другой студент-медик на моем месте.
Сигнал пейджера.
Я, спотыкаясь, со всех ног побежал к телефону, словно передо мной была та самая цель, ради которой я появился на свет.
На том конце провода мне сообщили, что пациент на четвертой койке в палате А, кажется, умер и что мне нужно подойти и зафиксировать смерть.
– Конечно, сейчас иду, – ответил я, стараясь скрыть свое разочарование. Это формальность, я это прекрасно понимал, но это же все равно важно, так ведь? Я нацепил на шею стетоскоп, к весу которого еще не привык, и поднялся на четыре этажа выше, в терапевтическое отделение. Палата А, койка 4.
Кто-то уже накрыл пациента с головой простыней. Больной на койке напротив притворялся, что не смотрит в мою сторону: он лежал, уткнувшись в экран крошечного телевизора; из поролоновых наушников орала музыка.
– Сэр? – обратился я к умершему и потряс его за плечо.
Плечо было тяжелым и твердым. Я откинул простыню. Побелевшие губы застыли в последнем звуке: «О».
– Сэр? – я еще раз потряс его за плечо.
Пощупал пульс. Запястье уже было холоднее положенного, холоднее, чем моя рука. Пульса не было. Я опустился на колени, посмотрел на поверхность его груди, пытаясь уловить хотя бы малейшее движение. Грудная клетка была неподвижна. Я приложил к ней стетоскоп. Тишина.
– Он мертв, – сказал я, вернувшись к медбрату, который сидел один за столом.
Он кивнул, подавив зевок.
– Доктор?.. – сказал он, явно желая мне польстить. Он знал, что, если бы я был настоящим доктором, мне бы уже доверили живых пациентов.
Я пошел обратно вниз по лестнице, потирая ладонь о ладонь, пытаясь согреть пальцы и тем самым стереть из памяти это ощущение прикосновения к остывшему воску.
То, чего я не услышал в тот раз в раструбе стетоскопа, и есть то, что я с тех пор стремлюсь услышать каждый раз: движение жизни. Воздух наполняет предназначенные для него места, раздувая пузырьки –