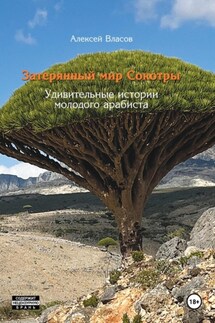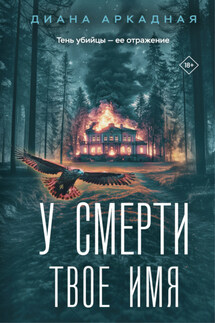Читать онлайн Алексей Власов - Затерянный мир Сокотры. Удивительные истории молодого арабиста
Вместо предисловия
Случилось так, что в юности я побывал на удивительном недоступном заповедном острове в Индийском океане. Остров называется Сокотра. Яркие воспоминания остались на всю жизнь. Я часто рассказывал и пересказывал происходившие со мной на острове истории и приключения своим школьным, институтским и прочим друзьям, знакомым, приятелям и коллегам по работе.
Друзья! Все те, кто уже слышал мои старые истории, уж вы не обессудьте, новых старых историй у меня для вас нет, есть только эти сотни раз рассказанные-пересказанные. Я просто попытался их снова вспомнить, записать и расположить в определенном порядке. Первым читателем был Андрей. Он не только взял на себя труд исправить мои грамматические и орфографические ошибки, но и настоятельно посоветовал написать краткое вступление, чтобы будущий редактор поменьше делал бы исключений из моего оригинального текста. Андрей даже взял, да и написал за меня предполагаемое вступление. Вот что у него получилось.
Главный персонаж рассказа – Сокотра с ее экзотикой, но есть и другие, это люди, кому в то советское время «повезло» выехать за границу. Они жили там в условиях ограничений, как добровольных (экономия средств), так и вынужденных (нежелательность внеслужебных контактов с жителями страны пребывания). Долгое общение только друг с другом в практически «закрытом сообществе» породило своеобразный фольклор, полный историй, иногда забавных и даже невероятных, которые много говорят о нравах «совзагранучреждений». Некоторые из них я использовал, чтобы избежать монотонного изложения событий моей жизни на Сокотре, и надеюсь, что мои заметки не покажутся сухим отчетом.
К написанному Андреем остается от себя лишь добавить, что все же главным героем, помимо Сокотры, является, пожалуй, еще и ностальгия по ушедшей юности, которую, когда она есть, не замечаешь, а с возрастом понимаешь, что она была, и начинаешь к ней испытывать сентиментальные чувства…
Как меня могли не пустить за границу
Накануне кончины Леонида Ильича Брежнева нас направили на овощную базу в Солнцево. Шел 1982 год. Я учился на 4-м курсе Института стран Азии и Африки (ИСАА), социально-экономический факультет, арабская группа. На овощной базе разгружали капусту из товарных вагонов. Была поздняя осень, на улице лежал снег, и кочаны капусты в вагонах промерзли. К тому же, видимо, еще до мороза, верхние листья капусты успели подгнить, и теперь кочаны были леденисто-твердые, грязно-вонючие и очень скользкие. Мы выстроились на платформе, двое парней забрались в вагон и стали метать капустные шары, их надо было ловить и бросать соседу по цепочке. Кочаны летали, как пушечные ядра, выскальзывали из рук, падали на перрон, трескались. На одежде оставались мокрые темные пятна с запахом гнили. Поработав таким образом часа два, сделали перерыв. Как говорится, с собой было. Выпили, закусили.
– Неплохо было бы нам мешок картошки с базы прихватить, а то в общежитии жрать нечего, – сказал один японист (ныне видный российский предприниматель).
После выпитой водки я проникся состраданием к голодающим товарищам из общежития, и мы с японистом пошли исследовать возможные маршруты проноса. Вскоре наши изыскания увенчались успехом: от базы в снегу вела проторенная дорожка прямо в бетонный забор. А это зачем, скажите, такая специальная тропка в глухой забор, где нет ни двери, ни даже дырки? Не мудрствуя лукаво мы в этом месте и перекинули полмешка картошки, доверившись опыту постоянных работников овощной базы, которые задолго до нас определили удобное место: и с улицы не видно, что упало, и от проходной недалеко.
После перерыва долго поработать не удалось. Темнело рано, а на платформе вдруг погас свет. В темноте кочаны не покидаешь. Посидели, покурили, допили оставшееся, пошли выяснять, будет ли и когда электричество. Долго искали хоть кого-то, наконец нашли одного местного мужика с базы, но тот сказал, что сам он про это электричество ничего не знает, что он не электрик. А где электрик? Кто ж его знает, электрика-то! После этого мнения разделились. Одни считали, что с базы надо валить, другие полагали, что стоит досидеть еще часа два до официального срока окончания мероприятия. Короче, одни ушли, другие остались. При выходе не забыли подобрать с улицы у забора полмешка картошки. Шли грязные, молодые, веселые, не то чтобы пьяные, но и не совсем трезвые, держа мешок за углы. В общем, база удалась. Хотели было продолжить, японист приглашал в общежитие, благо и закуска в мешке была, но достаточных средств не оказалось. Разошлись по домам.
В институте прознали, что часть студентов раньше времени ушла с мероприятия. Мое предположение, что это произошло случайно. Ответственного за овощную базу комсомольца спросили на комсомольском комитете: «Как прошло мероприятие?», а он вместо того чтобы просто ответить: «Да нормально», без всякой задней мысли, взял да и честно рассказал, что отключили свет, работать стало невозможно, и некоторые ушли раньше времени. А на комсомольском комитете перестраховались, решили не замалчивать факт недобросовестного отношения к добровольно общественному мероприятию и передали сигнал выше, в партком института. А тут как раз и Леонид Ильич скоропостижно скончался. Все, таким образом, удивительно совпало (должно быть, звезды так сошлись), что именно в этот день на парткоме института рассматривали наши кандидатуры, чтобы рекомендовать на языковую практику в арабские страны. Мне обещали 4-месячную практику в Университете Туниса.
Уехать за границу в советское время можно было только после получения многочисленных положительных рекомендаций комсомольских и партийных органов. По порядку: от первичной комсомольской организации до Комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС, находящейся в здании на Старой площади. В нашем случае это была следующая цепочка рекомендаций: комсомольская организация семинарской группы, комсомольская организация курса, комсомольский комитет института, партком института, а поскольку наш Институт стран Азии и Африки является частью МГУ, то, соответственно, комсомольский комитет МГУ, партком МГУ и только потом Комиссия по выездам за границу при ЦК КПСС. В тот памятный день мы как раз добрались до парткома ИСАА.
В этот трагический для страны, мирового коммунистического движения и всего прогрессивного человечества день – 10 ноября 1982 г. наши кандидатуры как раз и должны были рассматривать на парткоме ИСАА. Такое горе, а студенты раньше времени сбежали с овощной базы! Председателем парткома был завкафедрой английского языка – заслуженный преподаватель, ветеран Великой Отечественной войны, партизан, орденоносец по прозвищу Череп, поскольку был лыс. Черепа не любили. Вообще на кафедре английского языка бытовало мнение, что студенты тратят все свои силы на основной восточный язык в ущерб английскому. Поэтому к студентам надо применять жесткие меры, мотивируя свою позицию доводом: еще неизвестно, какой язык вам больше потребуется в будущей жизни – восточный или английский. А ведь, возможно, они были и правы! Череп часто зверствовал на экзаменах. Экзамен принимали обычно две преподавательницы[1]: одна из своей группы, вторая – из параллельной. Была примерно следующая статистика оценок: 4, 4, 3, 5, 4…. и тут заходит в класс Череп: 2, 3, 2, 2, 3, 2. Череп уходит: 4, 4, 3, 4, 4, 5.
На партком вызывали по одному. Дошла и моя очередь. Череп долго выпытывал, как же так получилось, что мы ушли с важного мероприятия, кто это придумал, кто был зачинщиком. Я, потупив глаза, все твердил одно и то же, что электричество отключили, вот свет и погас, а без света работать невозможно, взяли да и ушли сами по себе, без всяких зачинщиков. А тот все свое гнет и гнет, что не может быть такого, должен быть тот, кто первым придумал и предложил уйти, скажи имя зачинщика. Я думал про себя: «Вот гад! Хочет, чтоб я кого-нибудь заложил». Под конец Череп сказал: «Вот другие-то не ушли, это получается, что ты как бы своих товарищей в бою бросил. Я бы с тобой в разведку не пошел». У меня так и вертелось на языке сказать заслуженному преподавателю, ветерану, орденоносцу, что и я бы с ним в разведку не пошел, если что, он меня первым бы и заложил. Но промолчал. Сбежавшим с базы положительную рекомендацию на поездку за границу партком не дал.
Как меня пустили за границу
Обидно, я-то себя уже в Тунисе представлял. Книжки про Тунис читать было начал. Учусь в вузе, который предполагает дальнейшую работу за рубежом в восточных странах, а сам вот уже и невыездной из-за какой-то ерунды. Но жизнь продолжалась, и как-то на уроке военного перевода наш преподаватель (майор, если не ошибаюсь) сообщил, что у нас будет зарубежная языковая практика от Министерства обороны. В арабских странах, где есть советские военные специалисты, очень не хватает переводчиков с арабским, вот туда мы и направимся практиковаться. Одним досталась Ливия, другим Алжир, а мне – Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ). Когда мы сообщили, что нас партком ИСАА не пропустил из-за овощной базы, преподаватель военного перевода обещал решить этот вопрос. Действительно, уже ближе к Новому году он вбежал в класс и велел срочно ехать в главное здание МГУ, где заседал Комитет комсомола МГУ, который должен нам дать рекомендации для выезда за рубеж. В руках у майора были наши положительные рекомендации парткома ИСАА, датированные тем самым числом, когда нас с позором провалили.
Дальше все пошло как по маслу. Мы прошли Комсомольский комитет МГУ, а через некоторое время и партком МГУ. Все было достаточно формально. Мне показалось, что на этих рассмотрениях не знали, о чем нас спрашивать. Обычно в метро по дороге на очередное комсомольско-партийное заседание я просматривал газету «Правда» и, как правило, был вопрос:
– Вы газеты читаете?
– А как же, обязательно читаю.
– А что было, например, в последнем номере «Правды»?
И ты кратенько пересказываешь передовицу. В парткоме МГУ моего приятеля спросили:
– Вы по какой теме курсовую на 4-м курсе писали?
– Нефтедоллары стран Персидского залива.
– А в какую страну Вас направляют?
– В Ливию, на год.
– Вот и хорошо, соберете там за год дополнительную информацию по теме и на 5-м курсе расширите свою курсовую до дипломной работы: «Нефтедоллары стран Персидского залива на примере Ливии».
В парткоме МГУ заседали преподаватели технических наук: физики, химики, математики. Им не обязательно было знать, что Ливия не входит в страны Персидского залива.
Настал срок идти на Старую площадь в Комиссию по выездам за границу при ЦК КПСС. Преподаватель военного перевода велел особое внимание уделить внешнему виду: быть обязательно в костюмах с комсомольскими значками и при галстуках. Тут выяснилось, что галстуков до этого никто толком не носил и завязывать их не умеет (не считая зеленых «селедок» на резинках, которые заставляли носить на военной кафедре). Я пришел в уже завязанном отцом галстуке и совершил ошибку: стал показывать другим, как правильно вязать двойной узел. Развязать-то развязал, а завязать не могу. Долго мы потом в туалете перед зеркалом упражнялись.
В здании на Старой площади встретили двое в костюмах и в галстуках, спросили:
– В какую страну летите, в социалистическую или капиталистическую?