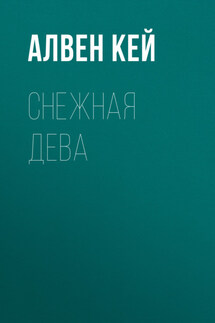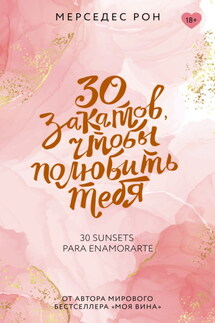Здесь водятся драконы - страница 3
Помимо грузов, на «Смоленске» прибыла в Новую Москву полурота матросов флотского экипажа под командой совсем юного мичмана – им предстояло возвести на африканском берегу сооружения военно-морской станции флота Российского, о чём имелась уже договоренность с абиссинским негусом. Кроме них, из России прислали инженера в чине лейтенанта, которому и предстояло руководить сооружением батареи для шестидюймовок. Трофейные же орудия и картечницы разделили на две части – половину решено было оставить на «морском пути», остальные же расположить для обороны Сагалло с суши. Впрочем, пока эти предосторожности не пригодились: французы, опомнившись после унизительного поражения, уползли в свой Обок и носа не казали к берегам Сагалло – один-единственный раз прислали судно, чтобы забрать тела погибших. Из газет, которые регулярно, хотя и нечасто, доставляли арабские каботажные суда, поселенцы знали, что Париж бомбардирует Санкт-Петербург гневными нотами по поводу инцидента, но видимых последствий это пока не имело – и, как не раз говорил Матвею Казанков, иметь, скорее всего и не будет. Так что желающих посягнуть на российский флаг, развевающийся над спешно восстанавливаемой башней форта Сагалло, не находилось. Прежний, ашиновский штандарт в виде того же бело-красно-синего полотнища, перечерченного жёлтым косым крестом, был спущен на следующий день после нападения и послужил покровом для гроба основателя Новой Москвы, беспокойного атамана, сложившего свою буйную голову при отражении высадившегося у Сагалло частей французского иностранного Легиона. Могила его недалеко от крепости – там и лежит Николай Ашинов, вместе с недоучившимся студентом-землемером Егором и другими, кто погиб, защищая первый оплот Российской империи на африканском континенте.
Сама башня отчётливо рисовалась на фоне пронзительно голубого абиссинского неба, венчая нависшую над берегом громаду крепости. Впрочем, поправил себя Матвей, не такая уж громадина – разве что на фоне глинобитных афарских хижин да построек собственно Новой Москвы, дощатых бараков и совершенно малороссийских мазанок крытых вместо соломы пальмовыми листьями – другого он здесь и не видел. Но ничего, скоро всё изменится – недаром сгружают сейчас со «Смоленска» связки досок и сосновые брусья, которым назначено стать материалом будущего большого строительства…
От уреза воды крепостные стены отделяла неширокая береговая полоса – поначалу плоская, она шагов через сто поднималась к самым древним стенам. На этом склоне (Казанков именовал его по-военному, «гласис»)до сих пор различаются наполовину занесённые песком траншеи, где укрывались русские стрелки, да многочисленные воронки – отметины, оставленные французскими снарядами. Крепость тоже носила следы артиллерийского обстрела – в тех местах, где старинная кладка не выдержала, подалась стали и чугуну, зияли уродливые проломы, частично уже заделанные бутовым камнем на известковом растворе.
– Как продвигается ваше обучение? – осведомился моряк. Молодой человек посмотрел на него с удивлением – не далее, как вчера, Казанков присутствовал на «практических занятиях», когда он под руководством мичмана-минёра с «Бобра» постигал науку использования гальванических батарей для производства взрыва камуфлета. Этим мудрёным термином мичман обозвал проделанный в скалистом грунте вертикальный шурф глубиной пять футов и диаметром в полфута. Для этого пришлось позаимствовать железный бур, с помощью которого поселенцы сооружали в этой скупой на пресную воду местности колодцы; заложенный в «камуфлет» заряд чёрного пороха вызвал сотрясение почвы в полусотне шагов, а на месте шурфа образовалась довольно солидная яма от просадки грунта – камуфлет, как вид подземного заряда, объяснил минёр, тем и отличается от других видов взрывных работ, что не производит выброса грунта на поверхность.