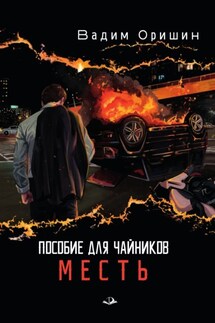Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы - страница 27
Успех земской реформы в немалой степени определялся тем, что общество почувствовало себя активным участником преобразований и сочло новые институты самоуправления укорененными в русской традиции. Если при Иване IV земские учреждения вышли из общинного самоуправления, то одноименные институты XIX в. – из дворянского, крестьянского и городского самоуправления. Традиция самостоятельного решения населением общесословных и общинных задач к середине XIX в. не была утрачена. Новые органы местного самоуправления легли на подготовленную почву.
В ходе разработки концепции земской реформы была удачно найдена ее теоретическая конструкция. Общественная теория самоуправления[131] соответствовала бытовавшим тогда представлениям об оптимальном устройстве местного управления. При всей теоретической и практической спорности утверждения о том, что власть на местах может быть «негосударственной», такая модель самоуправления позволяла преодолеть барьер отчуждения и привлечь активную часть общества в земские учреждения, которые, как казалось, были отделены от государства.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. впитало в себя популярные тогда европейские идеи организации местного самоуправления. Но оно не было калькой с других законодательных актов и содержало ряд новаторских идей. В ходе реформы местного управления в Пруссии текст «Положения» и опыт первых лет работы земских учреждений внимательно изучался. С российским законодательством в этой сфере знакомился первый канцлер Германской империи О. Бисмарк. 18 декабря 1872 г. был принят главный законодательный акт прусской реформы – «Положение об окружных (уездных) земских учреждениях». В основе двух реформ лежали общие подходы, в частности, соединение правительственных и общественных элементов в местном управлении, сочетание распорядительных и исполнительных полномочий органов местного самоуправления, подконтрольность органов местного самоуправления правительству, судебный надзор за их деятельностью (в Пруссии – специальные административные, в России – общие суды).
Облеченная в «традиционные одежды», земская реформа в то же время реализовывала новые принципы, не свойственные ранее институтам публичной власти в России.
Система дореформенного управления блокировала развитие правовых форм общения. Во-первых, отсутствовали законодательно установленные границы произвола управленцев. Во-вторых, защитить от такого произвола могла только вышестоящая судебно-административная инстанция, поскольку отделенный от администрации суд появился в России после 1864 г. Такой порядок нарушал правовой принцип «нельзя быть судьей в собственном деле» и в значительной мере определял уровень правовой культуры чиновничества и общий уровень правосознания в стране.
С начала XVIII в. главный путь повышения правовой культуры служащих виделся во введении в их работу принципа законности. Петр I хотел реализовать его через учреждение прокуратуры и института фискалов, а также должности рекетмейстера в Сенате. Принцип законности понимался, прежде всего, как средство защиты самой власти от нечистоплотных управленцев.
Естественной мотивацией чиновника всегда является целесообразность: любая отрасль управления нацелена на результат. С формированием современного государства важнейшей задачей управления становится введение деятельности бюрократии в правовое поле, поиск удачного сочетания целесообразности и законности. В идеальной системе управления целесообразное решение не должно противоречить закону. Но, как писали дореволюционные правоведы, «совмещение начала целесообразности с началом правомерности представляет собой задачу трудную, которая требует разносторонне обдуманного и искусного решения»