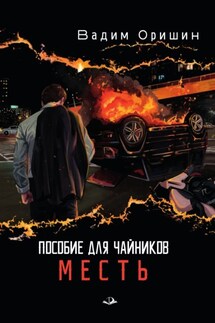Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы - страница 28
Противоречивость пореформенной административной системы в России имела в своей основе конфликт между старыми и новыми ценностными ориентациями, в том числе, между задачей сохранения самодержавия и объективными потребностями общественного развития. В кругу тех, кто проектировал и осуществлял реформы, встречались носители тех и других идей.
Сколько-нибудь значимое число служащих с юридическим образованием, т. е. воспитанных на идее законности, а не в привычке во всем подчиняться указаниям начальства, появляется в России только во второй четверти XIX в. До этого обучение управленческой культуре шло преимущественно в процессе службы, неизбежно воспитывая начетчиков.
Введение в управление принципов законности, распространение юридического образования первоначально касалось высшего управленческого аппарата. В XIX в. верховная власть проявляла явную благосклонность к выпускникам юридических факультетов, особенно Училища правоведения, которое формально давало среднее образование. Служащие, приобщенные к юридическому знанию, осознавали себя носителями высокой идеи права и мало уважали опыт предшествующего поколения. Между тем, это старшее поколение чиновников придерживалось прежних ценностей. Устройство правительственной администрации в ходе реформ не подверглось изменениям, поэтому государственные учреждения в пореформенное время продолжили воспроизводить служащих старого типа.
Процесс обращения чиновников в «юридическую веру» шел медленно. Депутат Государственной думы I созыва В. Д. Набоков писал, что «начало законности не может быть сколько-нибудь прочным, пока не устранена окончательно возможность и дополнения, и изменения законов распоряжениями правительственной власти, возможность конкуренции власти верховного (а тем более подчиненного) управления с властью законодательной, – конкуренции, господствовавшей при нашем дореформенном строе и лишавшей его всякого правового характера»[133]. Он с тревогой констатировал новые факты нарушения установленного порядка законодательства: «Именно самые последние годы характеризуются каким-то возведением <…> неуважения к закону в принципе, им как-то щеголяют, открыто подчеркивая, что законы и законность всегда и бесспорно должны отступать перед требованиями “Государственной целесообразности”».
Деятельность новых органов местного самоуправления была основана на иных принципах. Земства учреждались на условиях жесткой подзаконности их работы. Важность законодательного определения компетенции местного самоуправления подчеркивал русский правовед, сторонник государственной теории самоуправления В. П. Безобразов. Он видел сущность самоуправления в «управлении по законам и чрез законы». Безобразов отмечал, что постановления земских собраний были обязательны для населения. Поэтому он признавал за органами самоуправления право действовать «чрез законы», т. е. считал их институтом власти. В продолжение этой мысли Безобразов делал вывод: местное самоуправление и государственные учреждения суть две стороны единого государственного управления, «двоякие органы одного и того же государственного организма, различные формы одной и той же власти»[134]. Они вынуждены сосуществовать, будучи основанными на разных принципах.
Анализ «Положения» 1864 г. показывает, что организационные основы земских учреждений отвечали даже современным стандартам. От дореформенных учреждений их отличал целый ряд особенностей.