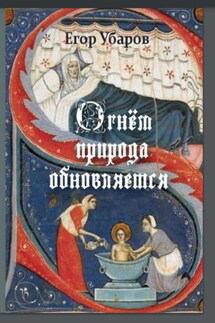Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть - страница 69
Лев Натанович Лунц (1901–1924) в 1921 году стал одним из организаторов литературной группы «Серапионовы братья», от имени которой выступил с теоретическими декларациями, в которых главнейшим тезисом было провозглашение автономии искусства от власти и свободы человеческой личности в спорах об общественном устройстве. «Почему мы „Серапионовы братья“» Лев Лунц напечатал в журнале «Литературные записки» (1922. № 3), а свои размышления о влиянии западноевропейской литературы (сам он окончил отделение романистики филологического факультета Петроградского университета) на русскую он изложил в статье «На Запад», опубликованной в Берлине в журнале «Беседа» под редакцией М. Горького (1923. № 2). М. Горький имел полную информацию о «серапионах» от Льва Лунца, Константина Федина, Вениамина Зильбера (Каверина)… Сам писал о «серапионах», познакомился со многими в 1920–1921 годах, всячески их поддерживал, хорошо знал о том, что подготовленная к постановке пьеса Лунца «Вне закона» (Беседа. 1921. № 1) была запрещена цензурой, увидевшей намёки на Октябрьскую революцию в том, что в некоей выдуманной стране рабочий-каменотёс поднимает бунт и свергает герцога, возглавляет правительство и становится тираном. В 1923 году Лев Лунц уехал из России в Германию, к родителям, которые ещё раньше эмигрировали, и лечился, но болезнь сломила его, и в 1924 году он скончался. Он, как и Леонид Каннегиссер, не принял диктатуру пролетариата с её чудовищной несправедливостью по отношению к русскому народу, писал свои сочинения с бунтующим подтекстом, в частности, в пьесе «Город Правды» (1924) он показывает идеальное коммунистическое государство, лишённое христианского гуманизма и милосердия, как это было и на самом деле.
В своих воспоминаниях «Устная книга» Н. Тихонов описал Дом искусств в Петрограде (бывшая квартира братьев Елисеевых, миллионеров-бакалейщиков, сбежавших за границу), где в конце 1920 года начали селиться разные писатели. «Населявшие его люди были невероятно несхожи друг с другом, – писал Н. Тихонов. – Тут жили и старые, и молодые, люди разных поколений и жанров. Рядом с сестрой художника Врубеля – молодые писатели вроде Лунца и Слонимского, рядом со скульптором Ухтомским – Аким Волынский, автор сочинений о Леонардо да Винчи и Достоевском. Жили писатели Ольга Дмитриевна Форш и Леткова-Султанова, помнящая Тургенева. Жила баронесса Икскуль, которую написал ещё Репин. Жила Мариэтта Шагинян, кстати, она поселилась в помещении бывшей ванной Елисеевых. Жил и полубезумный поэт Пяст, переводчик, и мрачный Грин, молчаливый и необщительный. Был ещё Чудовский, бывший критик эстетского журнала „Аполлон“, написавший статью в защиту буквы ять.
Чтобы оправдать название дома – „Дом искусств“, в нем были устроены студии. Студию критики вел, например, Корней Чуковский, поэзии – Гумилёв… Волынский основал школу танцев и ведал этой студией.
Читались лекции по разным отраслям искусств.
Устраивались вечера поэзии, куда вход был общедоступный, где выступали Мандельштам, Анна Радлова, Всеволод Рождественский, Павлович, Ходасевич, где читал свою поэму „150 000 000“ приехавший из Москвы Маяковский; эта поэма прочитана была впервые в Ленинграде в Доме искусств» (Вопросы литературы. 1980. № 6. С. 108).
Николай Тихонов пришёл в Дом литераторов получить премию за рассказ «Сила», денежная премия была настолько смехотворна, что на неё «можно было купить полкило хлеба на рынке или починить галоши». Среди получавших премии были и совсем молодые люди, которые хорошо знали друг друга. Лев Лунц заговорил с Тихоновым и пригласил его бывать у «серапионов». «Серапионы» собирались по субботам в маленькой комнате Михаила Слонимского, – вспоминал Н. Тихонов. – Там была железная печка, железная кровать и стол. Мы все писали тогда как сумасшедшие. Обычно по субботам читались новые произведения и тут же обсуждались. Причем иногда доходило до невероятной рубки, каждый защищал своё произведение до последнего. Но в конце концов признавали: «ну да, не вышло». И тут же бросали в печь.