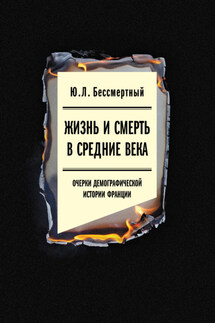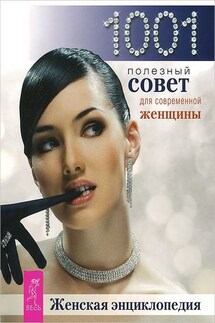Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической истории Франции - страница 29
Франкская традиция была терпима и к бракам среди родственников102. Единственное предписываемое ею ограничение касалось союзов с несвободными: они строжайше карались, по крайней мере в ранний период103.
Что касается возраста выступления германцев в первый брак, то данные о нем в источниках практически отсутствуют. Отметим лишь, что Салическая правда признает «совершеннолетними» уже двенадцатилетних мальчиков. Возможно, и брак разрешался для лиц мужского пола в этом раннем возрасте. Тогда и разрешенный возраст вступления в брак девушек также не мог превышать 12 лет. Отсюда, конечно, не следует, что этот же возраст считался принятым для заключения первых браков. Тем не менее нам не кажется доказанной точка зрения Д. Херлихи о преобладании у германцев почти столь же поздних браков, что и в Римской империи (в 25–29 лет)104. Объясняя феномен поздних браков, характерных, по мнению Д. Херлихи, для варваров, он ссылается на возможность существования у германской знати нескольких жен и наложниц, из‑за чего для основной массы мужчин якобы «не хватало» женщин. Чтобы подтвердить эту гипотезу, потребовалось бы доказать существование у германской знати обширных «гаремов», способных сконцентрировать в своих стенах массу молодых женщин105.
Не помогает, на наш взгляд, и ссылка Д. Херлихи на главу ХХ «Германии» Тацита, в которой американский исследователь видит свидетельство преобладания у германцев поздних браков. В действительности же в этой главе содержится лишь туманное замечание: «Sera iuvenum venus, eoque inexhausta pubertas. Nec virgines festinanhur; eadem iuventa, similis proceritas: pares validaeque miscentur, ac robora parentum liberi referunt». В подчеркиваемой здесь добропорядочности поведения юношей (которые «не истощают» понапрасну свою мужскую силу) трудно не увидеть обычный для Тацита назидательный намек на превосходство германских нравов над римскими. То же касается и оценки равной «телесной крепости» мужчин и женщин, способных передать детям силу и здоровье. Единственное, что в тексте Тацита связано с вопросом о возрасте брака, – это замечание о девушках, которых «не торопят» – то ли с замужеством, то ли с помолвкой («Nec virgines festinantur»). Допустимо ли, однако, строить на этом сколько-нибудь широкие выводы?
На наш взгляд, в приведенном суждении Тацита можно увидеть свидетельство лишь одной тенденции – близости брачных возрастов мужчин и женщин. Эта черта брачной модели германцев подтверждается и рядом более поздних нарративных текстов, собранных Д. Херлихи106. Но если брачный возраст мужчин не отличался принципиально от брачного возраста женщин и притом был сходен со временем замужества последних в позднеримское время, то тезис Д. Херлихи о женитьбе «в конце третьего десятилетия» придется отвергнуть: как свидетельствуют римские надгробные надписи 250–600 гг., средний возраст замужества женщин в те столетия неизменно оставался ниже 20 лет107.
Кроме германских и позднеримских брачных традиций, на формирование брачной модели, принятой в каролингской Франции, не могли не наложить свой отпечаток церковь и каролингское государство. Взаимодействие этих двух сил во многом определило форму официально признанного брака и заметно повлияло на эволюцию массового поведения в этой сфере. Оба эти аспекта интенсивно обсуждались в медиевистике 70–80‑х годов, и мы ограничимся здесь в основном обобщением и осмыслением полученных научных результатов