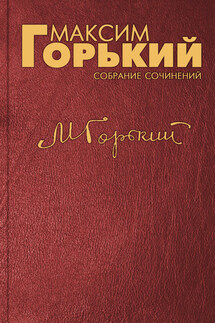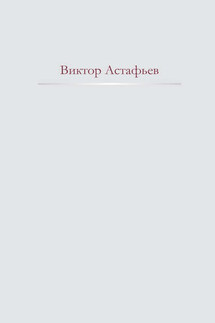Жизнь Клима Самгина - страница 121
Клим Самгин снова оттолкнул брата:
– Прочитайте! Кстати – у вас и фамилия та же, что у полководца, которым командовала армия.
Уверенный, что он сказал нечто едкое, остроумное, Клим захохотал, прикрыв глаза, а когда открыл их – в комнате никого не было, кроме брата, наливавшего воду из графина в стакан.
Дальше Клим ничего не помнил.
Проснулся он с тяжестью в голове и смутным воспоминанием о какой-то ошибке, о неосторожности, совершенной вчера. Комнату наполнял неприятно рассеянный, белесоватый свет солнца, спрятанного в бескрасочной пустоте за окном. Пришел Дмитрий, его мокрые, гладко причесанные волосы казались жирно смазанными маслом и уродливо обнажали красноватые глаза, бабье, несколько опухшее лицо. Уже по унылому взгляду его Клим понял, что сейчас он услышит нечто плохонькое.
– Что ж ты как вчера? – заговорил брат, опустив глаза и укорачивая подтяжки брюк. – Молчал, молчал… Тебя считали серьезно думающим человеком, а ты вдруг такое, детское. Не знаешь, как тебя понять. Конечно, выпил, но ведь говорят: «Что у трезвого на уме – у пьяного на языке».
Говорил Дмитрий задумчиво и затрудненно. Справившись с подтяжками, он сел на скрипучий стул.
– Вышло, знаешь, так, будто в оркестр вскочил чужой музыкант и, ради озорства, задудел не то, что все играют.
«Какой тусклый, бездарный человек, – думал Клим. – Совершенно Таня Куликова».
И вдруг заговорил:
– Ну, довольно! Ты – не гувернер мой. Ты бы лучше воздерживался от нелепых попыток каламбурить. Стыдно говорить Наташка вместо – натяжка и очепятка вместо – опечатка. Еще менее остроумно называть Ботнический залив – болтуническим, Адриатическое море – идиотическим…
Разгорячась, он сказал брату и то, о чем не хотел говорить: как-то ночью, возвращаясь из театра, он тихо шагал по лестнице и вдруг услыхал над собою, на площадке пониженные голоса Кутузова и Марины.
– Когда же ты скажешь Самгину?
– Не хватает храбрости… И – жалко, он – так…
– Я тоже так…
Сочно чмокнул поцелуй; Марина довольно громко сказала:
– Не смей!
Кутузов промычал что-то, а Клим бесшумно спустился вниз и снова зашагал вверх по лестнице, но уже торопливо и твердо. А когда он вошел на площадку – на ней никого не было. Он очень возжелал немедленно рассказать брату этот диалог, но, подумав, решил, что это преждевременно: роман обещает быть интересным, герои его все такие плотные, тельные. Их телесная плотность особенно возбуждала любопытство Клима. Кутузов и брат, вероятно, поссорятся, и это будет полезно для брата, слишком подчиненного Кутузову.
Рассказав Дмитрию подслушанную беседу, он прибавил, поддразнивая:
– Конечно, она предпочтет его…
Говоря, он смотрел в потолок и не видел, что делает Дмитрий; два тяжелых хлопка заставили его вздрогнуть и привскочить на кровати. Хлопал брат книгой по ладони, стоя среди комнаты в твердой позе Кутузова. Чужим голосом, заикаясь, он сказал:
– Т-такие в-вещи рассказывают горничные. Это извинительно только с похмелья.
Швырнув книгу на стол, он исчез, оставив Клима так обескураженным, что он лишь минуты через две сообразил:
«Этим тоном Дмитрий не смел говорить со мной. Надо объясниться».
Решил пойти к брату и убедить его, что рассказ о Марине был вызван естественным чувством обиды за человека, которого обманывают. Но, пока он мылся, одевался, оказалось, что брат и Кутузов уехали в Кронштадт.
Елизавета Спивак простудилась и лежала в постели. Марина, чрезмерно озабоченная, бегала по лестнице вверх и вниз, часто смотрела в окна и нелепо размахивала руками, как бы ловя моль, невидимую никому, кроме нее. Когда Клим выразил желание посетить больную, Марина сухо сказала: