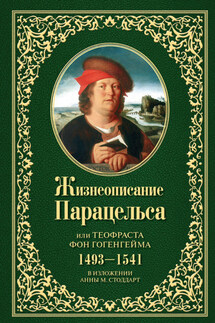Читать онлайн Анна М. Стоддарт - Жизнеописание Парацельса или Теофраста фон Гогенгейма (1493–1541)
THE LIFE OF PARACELSUS
THEOPHRASTUS VON HOHENHEIM
149З—1541
BY ANNA M. STODDART
EDITOR OF "THE LIFE OF ISABELLA BIRD (MRS. BISHOP)”
WITH ILLUSTRATIONS
LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, W.
1911
Перевод с английского Л.Б. Бабушкиной
© ООО «Арт-Лайт», 2021
Предисловие
В 1833 году в возрасте двадцати одного года Роберт Браунинг написал стихотворение «Парацельс», которое по сей день считается, пожалуй, самым проницательным из его откровений, вызванных состраданием.
Сам поэт определял это стихотворное сочинение как изображение воплощённой души, потрясшей его воображение, изображение во всех отношениях фантастической личности. По этой причине многие из тех, у кого прочтение «Парацельса» вызывало восхищение, ставили это произведение в один ряд с другими, которые были проявлением субъективного хаоса творческой способности поэта. Но были и другие читатели, которые смутно осознавали, что человек, носивший это имя и слывший сумасбродным шарлатаном с претензиями на что-то, наделал немало шуму в шестнадцатом веке и не воспринимался всерьёз, поскольку считался выпивохой и хвастуном, необразованным, задиристым и самонадеянным человеком сомнительной репутации. Браунингу было известно больше, чем его читателям, так как он располагал несколькими рукописями Гогенгейма и некоторыми биографическими сведениями относително его жизненного пути, добытыми, главным образом, из трактатов, написанных его злейшими врагами, чьи труды известны ныне как лживые измышления. Изумляет тот факт, что при такой скудости сведений и такой завесе враждебного замалчивания поэт разглядел его высокую сущность.
Около четверти века тому назад учёные в Лейпциге, Берлине, Вене и Зальцбурге занялись изучением оставшихся без внимания вех в профессиональной деятельности Гогенгейма и оценкой их значимости для науки. С безграничным терпением, скрупулёзным подходом к делу, квалифицированным суждением, что отличает немца от других учёных, эти люди сняли запутанную сеть ложных представлений и явили миру золотую нить истины, высвободив её из западни. Д-р Зудхофф очень умело провёл большую исследовательскую работу с собранными сочинениями, которые приписывались Парацельсу, и опубликовал полученные результаты в двухтомном издании своей «Попытки критической оценки подлинности Парацельсовых сочинений», первый том которого вышел в свет в Берлине в 1894 году.
Д-р Карл Аберле изучал всевозможные изображения, пластические и графические, картины маслом, эскизы, гравюры на медных пластинах и гравюры на дереве и систематизировал их; и в ходе этой кропотливой работы он предпринял почти столько же длительных путешествий, сколько выпало на долю самому Парацельсу, а из преданий и легенд он узнавал массу не главных по значению, но важных биографических данных.
Кроме того, он продолжил хирургические исследования черепа и костей Гогенгейма, начатые его отцом в Зальцбурге, и опубликовал подтверждающие доказательства в чрезвычайно полезной книге «Надгробный памятник, череп и изображения Теофраста Парацельса», изданной в Зальцбурге в 1891 году.
Д-р Юлиус Гартман провёл тщательное исследование тех книг, которые д-р Зудхофф счёл подлинными сочинениями Гогенгейма, и извлёк из них все упоминания о его деятельности, его перемещениях и о событиях, касавшихся его лично, разместив все сведения в хронологическом порядке и составив, таким образом, своего рода автобиографию, которая являет собой то, без чего невозможно обойтись всем изучающим его борьбу за реформирование медицины.
Профессор Франц Штрунц в Лейпциге и профессор Карл Штрунц в Вене делают поразительную гениальность этого подвергавшегося гонениям человека предметом своих лекций, которые они читают студентам; и первый из упомянутых редактирует издание его трудов на их исконном немецком языке с пояснительными заметками, и «Парагранум» и «Парамирум» уже увидели свет.
Эти мужи – пионеры в деле изучения научной и исследовательской работы Парацельса, и их деятельность привлекает внимание тех, кто занимается научными изысканиями.
Именно стихотворению Браунинга предлагаемое «Жизнеописание Парацельса» обязано своим вдохновляющим началом, именно этим первопроходцам, а также его собственным трудам оно обязано своей аутентичностью.
Первые, но недостаточные шаги, предпринятые Обществом Браунинга, членом комитета которого я была в течение нескольких лет, заинтересовали меня, и двадцать лет тому назад я помыслила о возможности написания общедоступного жизнеописания, которое, будучи основанным на скрупулёзном исследовании, должно, насколько это возможно, восстановить последовательность событий его жизни и деятельности и спасти память о нём от презрительного отношения и забвения. В 1840 году д-р Меньян, талантливый биограф Амбруаза Паре, признавал и подчёркивал особые заслуги Гогенгейма перед наукой; в 1895 году английский литератор, писавший на темы истории медицины, пригвоздил его к позорному столбу как шарлатана, самозванца и фанфарона.
Пришло время представить читателям в Англии жизнеописание, которое возвело бы его на должное место в европейском возрождении, жизнеописание, свободное от предвзятости устарелых теорий, не преследующее цели создания объекта поклонения, поражающего своей необычностью.
Разного рода занятия препятствовали осуществлению этого замысла вплоть до первых дней весны 1910 года, когда я обрела возможность исполнить замысел, который за годы размышлений обрёл характер императива и священного долга. Приступая к работе, я с самого начала черпала вдохновение в отзывах и советах д-ра Джона Комри, магистра медицины, чьи лекции в университете Эдинбурга по истории медицины успели пробудить широкий интерес ко всему, что проливает свет на тему его выступлений, и ему я выражаю свою глубокую благодарность.
Я признательна за неизменную любезность и помощь библиотекарям Королевского медицинского колледжа, Адвокатской Библиотеке в Эдинбурге и всем другим библиотекам здесь и за границей, в которых я знакомилась с самыми ранними изданиями трудов Гогенгейма.
А также г-ну Мюррею, чьё искреннее одобрение первых глав позволило мне ощутить именно то знакомое мне родство душ, которое как ничто иное сближает и укрепляет дух и устремлённость, я спешу выразить сердечную признательность.
Анна Стоддарт,
Сиена
Портрет Парацельса, подписанный Яном Ван Скорелем (1495–1562), в том виде, как он был напечатан в английском переводе книги Парацельса «Философия к афинянам». Лондон, 1657 г.
Глава I
Д-р Вильгельм фон Гогенгейм
В те времена Айнзидельн и его зелёные холмы были для нас целым миром.
Долина, где расположен Айнзидельн[1], протянулась от двух Митенов[2] на юге до Эцеля[3] на севере. До конца восьмого века эта высокогорная долина была безлюдна. Её речушки и ручьи пробивали себе путь через лесные заросли к Цюрихскому озеру. Этим лесам доводилось слышать и волчий вой, и клёкот стервятников, но человеческий голос не долетал до края леса и редких лачуг на его опушке. Вся местность представляла собой явление девственной природы и вызывала опасения у людей, обитавших около озера. Высокие, покрытые снегом горы, протянувшиеся вдоль долины кантона Гларус, по Швицу, Ури и Унтервальдену[4], теснили её с юга, и ей оставалось лишь устремиться к северу, к приозёрным лугам; на западе она простиралась до Альматта, а на востоке окаймляла верхнее озеро и упиралась в п граничную полосу.
Этот малообжитый район принадлежал алеманнским[5] герцогам, а христианская община подчинялась епископату города Констанца; и хотя алеманнская знать, возможно, иногда и охотилась на лесных окраинах этого места, известного как Шварцвальд (Мрачный Лес), его обычно старались избегать из-за дурной славы.
Так было до тех пор, пока не пришло время Майнрада, родившегося в конце восьмого века. Его семья принадлежала к ветви рода, от которого произошли предки Императорского Дома Германии. Его отцом был граф Цоллерн. Он жил близ Роттенбурга в долине реки Неккар; там Майнрад, или Мегинрат, провёл детство. У мальчика проявился серьёзный склад ума, и отец увидел в этом указание, что его сын более подходит для служения церкви, чем для мирской жизни. Он отвёз его в знаменитую школу при монастыре на острове Райхенау, руководствуясь в этом выборе, по-видимому, тем обстоятельством, что одним из тамошних учителей был его родственник по имени Эрлебальд. Значительная часть людей, населявших берега Цюрихского озера и озера Констанц [Боденского озера], уже приняла христианство; многие вследствие горячих проповедей ирландских миссионеров Колумбана и Галлуса. Память о последнем живёт в имени Св. Галлена. Ведь в те времена Ирландия была опорным пунктом миссионерской деятельности, и под знаком Креста она несла людям свет знаний. Германия и Франция обращались к ней за содействием в организации школ, потому что её уровень образованности, её музыкальное искусство, её ремёсла и промышленное производство опережали незрелые цивилизации англов и алеманнов.
Как бы то ни было, часть Гельвеции и Алеманнии всё ещё оставалась языческой, и только знать стремилась дать образование своим сыновьям в монастырских школах.
Мудрая проницательность графа Цоллерна нашла своё подтверждение в принятом им важном решении. С самого начала Майнрад с большим желанием внимал своим наставникам. Он с усердием взялся за учёбу, овладел латынью и теологией, был прилежен на занятиях в скриптории[6], стал знатоком христианских догматов и ритуалов. Исполнение строгих правил монашеской жизни было для него желаннее ребячьих игр и развлечений. Такой послушный и старательный ученик внушал монахам любовь к себе, и они поощряли его тягу к священнической жизни. Майнрад провёл юность и первые зрелые годы в [монастыре] Райхенау и в двадцать пять лет принял духовный сан диакона и священника. В 822 году аббатом был назначен Эрлебальд. Вскоре после этого Майнрад вступил в орден Св. Бенедикта и полностью подчинил себя его суровому Уставу. Эрудиция подготовила его скорее к научной работе, чем к физической, и он переписал всю Библию, а также несколько требников. Он преподавал в школе и, спустя некоторое время, был направлен в Боллинген, что на верхнем Цюрихском озере, где Райхенау имел в своём подчинении монастырь и школу. Они были основаны по желанию Императора [Священной Римской империи] Карла Великого, который стремился насаждать в этой местности как можно больше образовательных учреждений.
Майнрад послушно и старательно исполнял свои обязанности, но душа звала его к занятиям в духовной, а не мирской сфере монашества. Он часто любовался первозданным безлюдным лесом на другом берегу неширокого озера, когда, после ночи в молениях, наблюдал восход солнца над горами. Тёмные углубления на горных склонах неодолимо притягивали его к себе. Там было его убежище, там он жаждал найти единение с Богом. Разве не призывал Св. Бенедикт в своём Уставе «к единоборству духа в пустыне, где присутствует лишь Бог и где нет никакой иной помощи, чтобы поддержать дух в его борьбе с искушением?»
Всякий раз, гуляя по берегу озера и неотрывно всматриваясь в дальний берег, он испытывал волнующее чувство притяжения. Наконец, он решил переправиться туда и осмотреть местность. Несколько учеников сопровождали его. Карабкаясь по горному склону, они добрались до Верхнего Эцеля. Здесь мальчики сделали остановку, чтобы порыбачить в реке Зиль, а Майнрад продолжил подъём и, углубившись в лес, нашёл место на нижнем уступе, подходящее для уединённого обитания. На обратном пути, спускаясь к южному берегу озера, учитель и ученики набрели на деревушку – сейчас это Альтендорф, – где одна добросердечная женщина пообещала снабжать его средствами к существованию и необходимыми вещами и приносить их к оговорённому месту на лесной опушке, откуда он мог бы забирать их в установленное время.