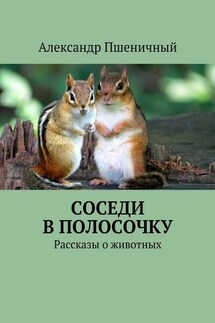Журнал «Парус» №67, 2018 г. - страница 33
Публицистика И.С. Шмелева пронизана глубокими размышлениями о «русскости», о национальном возрождении России. Необходимо отметить, что его мысли часто носили тревожно обоснованный характер, поскольку нередко он видел некую «безответственность», «политическую наивность одаренных, образованных людей» в эмигрантских кругах, которые должны были «постигать родину», «чуять и выражать ее».
В статье «Душа Родины» (Русская газета, 1924, № 3) писатель прямо и откровенно говорит: «Я не собираюсь учить любви к Родине… Я хочу выбить из души искры, острей ощутить утраченное, без чего жить нельзя…» И далее сам же риторически отвечает: «Что это значит – найти Родину? Прежде всего: душу ее почувствовать. Иначе – и в ней самой не найти ее. Надо ее познать, живую! Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки – ее поэты; по ней томятся, за нее отдают себя. Отдают себя за ее Лик, за душу; ими вяжет она с собою. Люблю, а за что – не знаю, не определить словом. Тайна – влекущая за собою душа Родины: живое, вечное, – и ее только. Поэты называют ее Женой, Невестой; народ – матерью, и все – Родиной» [8].
В очерке К.Д. Бальмонта «Белый сон», опубликованном в 1921 г. в газете «Воля России», воспоминания о России, любовь к ней являются подтверждением слов И.С. Шмелева о чувствах людей, оказавшихся в эмиграции. «Вот уже несколько дней с парижским небом случилось необыкновенное, – пишет К. Бальмонт. – Я любуюсь и смотрю на снежные белые крыши, прохожу по хрустящему снегу, ломаю тонкие льдинки. И нежно-молочная гладь говорит о силе снега, о внутреннем колдовании зимы… Моя мысль уходит далеко. Туда, в белую Москву и подмосковные места, где много было трудно, как никогда, но где душа моя пела…» [1].
Далее в очерке автор поэтически взволнованно воссоздает все, что «было трудно», но «душа пела»: «Тринадцать месяцев назад, лютый зимний холод, подмосковное местечко Н., занесенное снегом. И березы, и дубы, и липы, и ели в белой бахроме… Дома холодно. И как ни морозно на дворе, надеваешь рваную шубу и идешь греться среди снежных пространств, усыпанных алмазами, покрытых осыпью хризолитов, на которые смотришь. И вот цветной сон – и голубой, и алый, и белый завладевает через глаза сердцем, и душа уходит в мир, где ни холода, ни тепла, а лишь цветистые видения и текущая сила воспоминаний и надежд» [1].
Очерки К. Бальмонта типологически близки в идейном плане заметкам И.С. Шмелева «Сидя на берегу», опубликованным в этот же период в газете «Возрождение». Как и у К. Бальмонта, ностальгией пронизаны воспоминания И.С. Шмелева о России, в них перемежается картинная красочность с божественной возвышенностью образа родины. «В лесной тишине, куда приходишь в положенные сроки, думаю я о прошлом. Закрою глаза – и вижу: сталкиваясь, цепляясь, позванивая мягко, плывут и блещут тяжелые хоругви, святые знамена церкви. Золото, серебро литое, темный, как вишня, бархат грузным шитьем окованы. Идет не идет – зыбится океан народа. Под золотыми крестами святого леса церковных знамен – грозды цветов осенних: георгины, пионы, астры, – заботливо собраны росистым утром девичьими руками московки светлоглазой. “Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!” Святое идет в цветах. Святое в Песне» [7].
Образ далекой России становится близким и дорогим и в очерках К.Д. Бальмонта, и в заметках И.С. Шмелева, и в обзорах литературы, представленных на страницах периодических изданий того времени.