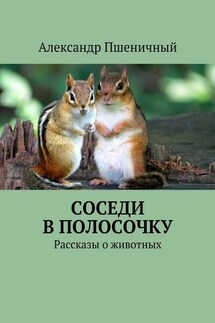Журнал «Парус» №67, 2018 г. - страница 32
И.А. Ильин видел суть национального сознания в духовности и православии, полагая, что именно они должны составить основу воспитания нового поколения русских. В 1925 г. он издал книгу «О сопротивлении злу силою», которая вызвала в русском зарубежье большую дискуссию; в ней принял участие и И.С. Шмелев.
Исследователь Н.М. Солнцева пишет: «В книге “О сопротивлении злу силою” Ильин заявил о философской слепоте Толстого и тем эпатировал интеллектуальную элиту эмиграции. Он считал, что суть учения Толстого сводится не к философии, а к морали, что моралью же подменен религиозный опыт. Мораль судит всякое религиозное содержание и подавляет эстетику; так, в “Воскресении” художественная образность уступила место нравоучительному резонерству».
Ильин выступил и против расширительного толкования толстовского учения, тем самым, по сути, указав современным мыслителям на их ошибку: Толстой не призывал к полному несопротивлению злу, его идея состоит в том, «что борьба со злом необходима, но что ее целиком следует перенести во внутренний мир человека…» [6].
После выхода книги И.А. Ильина в развернувшейся полемике И.С. Шмелев не просто поддержал философа, а, по сути, занял его позицию, о чем свидетельствуют статьи писателя, опубликованные в периодических изданиях русского зарубежья того времени. В них в качестве ключевых можно выделить две идеи, формирующие концептуальную направленность публицистических работ И.С. Шмелева, – духовное возрождение народа и веру в Бога. На наш взгляд, кроме прочего, именно эти позиции стали основными для творческого диалога «двух Иванов», который отражен в опубликованной переписке с 1927 по 1950 г. Ивана Шмелева и Ивана Ильина.
Исследователь Н. Кокухин по случаю выхода трехтомника написал в своей статье: «Переписка двух изгнанников – больше, чем переписка, больше, чем общение двух близких по духу людей. Их письма – это плот, который держит их на плаву; мост, который их соединяет; резервуар с кислородом, который помогает им не задохнуться на чужбине» [4].
И далее находим подтверждение сказанного уже в самих письмах: «Сколько видел я от Вас радостного, ласкового, чудесного! Единственный свет мне в Европе: родной свет. Если бы не дружба Ваша – я был бы несчастней, о, куда же несчастней! – без просвета» (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 20.02.1935); «Меня поражает, что мы с Вами в одни и те же годы, но в разлуке и долгой разлуке шли по тем же самым путям поющего сердца» (И.А. Ильин – И.С. Шмелеву. 15.03.1946).
В книге «О тьме и просветлении» И.А. Ильин отмечал самые важные и главные качества Шмелева-человека и Шмелева-писателя, считая его поистине русским, с русской душой и сознанием. Творчество И.С. Шмелева он оценивал как «событие в движении национального самосознания» народа [3, с. 130]. В трагическую пору его истории писатель сказал великую правду о России, показал ее лик, ее живую субстанцию – простого русского человека, преодолевающего страдания и бытовую пошлость своим слезным покаянием, жаждой праведности и религиозным созерцанием. В «Лете Господнем», в «Богомолье», утверждает критик, воссоздана православная Русь со всеми «уголками» ее духовной и бытовой жизни. Эпос Шмелева, пропитанный «слезами умиленной памяти», вселяет «уверенность в несгибаемости православного Китежа».
Символическим названием «Богомолье» обозначена идея исторического пути России. Ильин утверждает, что, подобно Достоевскому, Шмелев ставит философскую проблему смысла жизни, исполненной муки и просветляющего страдания, борьбы в человеке первобытной темноты и наивной духовности [3, с. 130]. Далее И.А. Ильин подчеркивает: «Шмелев есть прежде всего – русский поэт, по строению своего художественного акта, своего созерцания, своего творчества. В то же время он – певец России, изобразитель русского, исторически сложившегося душевного и духовного уклада; и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ – в его подъеме и его падении, в его силе и его слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве. Это национальное трактование национального. И уже там, дальше, глубже, в этих узренных национальных образах раскрывается та художественно-предметная глубина, которая открыла Шмелеву доступ почти во все национальные литературы…» [3, с. 160].