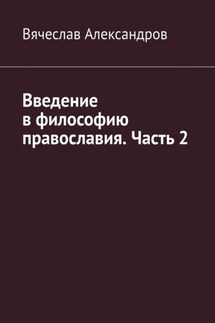Журнал «Парус» №73, 2019 г. - страница 20
Что касается «происшествия», таковым я считаю публикацию в конце 1836 г. в журнале «Телескоп» анонимного сочинения «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-ое». Несмотря на анонимность, имя автора было хорошо известно участникам тогдашних кружков и салонов: это был Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), одно время делавший успешную карьеру в качестве гвардейского офицера, но уволенный со службы в 1821 г. при достаточно темных обстоятельствах, в силу которых, как сообщается в словаре Брокгауза и Ефрона, он «сильно упал во мнении товарищей-офицеров».
Сразу отмечу: я не имею возможности (да и особого желания) тратить наши лекции на изложение биографии Чаадаева; кого интересуют ее подробности, может обратиться, в частности, к моему небольшому исследованию [1]. Сейчас моя задача – рассмотреть философско-религиозные взгляды Чаадаева; задача тем более важная, что до сих пор нас пытаются убедить в том, что «только после Чаадаева русская философия стала философией в подлинном смысле слова» [2: 758].
Не менее распространено мнение, согласно которому «письмо Чаадаева послужило одной из главных причин раскола между западниками и славянофилами» [3: 76]. О том, что никакого «раскола» по существу не было, мы будем говорить ниже; но уже сейчас замечу, что в отношении Чаадаева между ними царило трогательное единодушие. А. И. Герцен высокопарно заявлял: «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь <…> “Письмо” Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию» [4: 375]. В свою очередь, А. С. Хомяков незадолго до смерти в речи, произнесенной в 1860 г. в Обществе любителей российской словесности, выражался не столь грозно, но весьма умильно: «Почти все мы знали Чаадаева, многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. <…> в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде» и прочее в том же духе [5: 340–341].
Таким образом, его «противники» (к которым принято относить славянофилов), по свидетельству мэтра славянофильства, таковыми только «считались». Правда, «выстрел» Герцена Хомяков заменяет «лампадой», как того и требует распределение ролей между безбожником и церковником. И оба лгут, выдавая тьму за свет, а свет – за тьму.
У Чаадаева Россия погружена в безысходную тьму, сквозь которую не пробивается ни один луч свет. В первом «философическом письме» он вещает: «Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно»; нет «ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь»; «ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины»; [6: 324–325, 330]. Впрочем, кое-что у нас есть: «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс» [6: 330] Подобными тирадами первое письмо переполнено до краев, и приводить их далее нет особого смысла – Чаадаев упорно пережевывает жвачку слепой ненависти.
Интереснее другое: всего Чаадаев сочинил восемь «философических писем», но России посвящено только