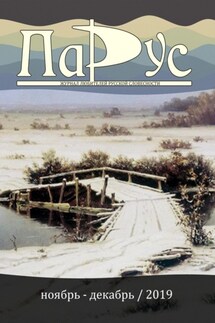Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 22
Фото Дианы Кан и Натальи Берестовой (Елабуга)
Литературоведение
Валерий СУЗИ. Автор и герой: триптих в теоретико-аналитических тонах
I. Искушение образоми идеей:«мирскаясвятость»у Достоевского.
Благими намерениями мощена дорога в ад, а благими делами – в рай1.
Искушение образом (князь Христос) и идея мирской святости – ключевые интуиции в духовно-нравственной драме автора. Русский гений Достоевского профессионально рефлексивен, что говорит о личностной зрелости, филологической чуткости, литературоцентризме нашей культуры: у него множество гуманитарных тем (богословских, творческо-поэтических) тесно переплетаются, врастают друг в друга. Эта черта от Благовестия заметна в «Слове о Законе и Благодати», в «Слове о полку Игореве».
Начиная с Пушкина, наша литература не «мыслит в образах» (как казалось позитивисту Белинскому), а живет образами, в образе2 (у Гете разница между мыслью, словом и делом существенна).
Уже у Пушкина (отчасти у Жуковского и Державина) происходит смена прежней риторической парадигмы, а значит, и природы слова, образа (т.е. имени и лика), положения и состояния словесности, на новую – диалогическую, собственно, художественную, в современном понимании термина. Заметим, что степень, творческий метод, тип художественности определяется типом, строением, природой образа, его тяготением к Имени (понятийно условному знаку в быту, науке, философии) и Лику-символу во плоти (в искусстве).
В Тютчеве и Достоевском (как показал Бахтин) переход от изобразительности и понятийности к выразительности и символьности осуществился вполне (не зря символисты считали их своими предтечами). Это был революционный процесс, ранее всего (как ни удивительно, но закономерно) состоявшийся у нас. С ним связан новый тип мышления, напрямую определивший русский способ философствования, приближенный к бытию, к экзистенции человека.
Суть его в том, что средневековая ветхозаветно-теоцентрическая картина мира сменялась антропоцентрической (процесс начат Ренессансом, завершен романтиками).
Рудименты теоцентрии романтиками же, тяготевшими к архаике, и актуализированы; но это была уже стилизация, явление факультативное, связанное с гностикой.
Главное заключалось в том, что наметилось разрешение противоречия, динамическое равновесие ветхой теоцентрии и древней антропоцентрии в неувядаемой христоцентрии. Человек впервые был прочувствован (прежде всего у нас) целостно, личностно, изнутри, как субъект мысли и действия, и в соотнесении с вечностью. Это заслуга перед культурой сентиментализма и романтики (экзистенциализма Кьеркегора, субъективного идеализма).
Вот почему наша словесность стала особой формой философствования; ведь у романтика «философия – высшая поэзия». Отличие нашей романтики от западной заключалось в различии частного индивида (в буржуазно-протестантском, социально расчлененном целом) и целостной личности (цвет христианско-дворянской культуры). Здесь скрыта загадка русской души, чуждой рассудку, рацио Запада3.
Итак, мышление в образах присуще риторической, до-пушкинской традиции. Для Пушкина этот тип образа (продукт типологизирующего способа восприятия) – знак поэтического анахронизма, приходящего в диссонанс с реальностью (одна из причин духовно-творческого кризиса Гоголя; чем больше дар, тем глубже, острей кризис; Гоголь из него так и не вышел). И если на Западе, в силу дедуктивности мысли и действия, философия и поэзия все же дифференцировались даже романтиками, то наши любомудры-шеллингианцы их синкретизировт.е. образами