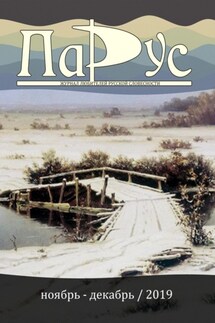Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 23
Этот процесс сближения поэзии, философии и жизни, их синтеза, лишь обозначен Гете и Шеллингом, Шиллером и Кьеркегором, дав зрелый плод у Шопенгауэра, Н. Гартмана и Ницше, и у европейских поэтов 2-й пол. XIX в.
У нас культурно-историческая, сословная отсталость обернулась духовно-культурной продуктивностью, формирующей идею национального мессианства, отличного от западного, социально-классового мессианства (у Маркса).
Произведение, образ, слово Мастера являются формой самореализации, рефлексии, точкой приложения интенций, жизненно-творческим экспериментом. В то же время оно – форма исповедания, его «горнило сомнений», проверка своей идеи на реалистичность, жизнеспособность. Прежде всего это относится к герою, с которым связь автора нелинейна.
При том что наша словесность исповедальна по сути, любимый герой Достоевского – как никакой иной — пререкаем. Таковы Мышкин, Алеша, Зосима, Пленник в поэме Ивана. Но таковы же и его «оппоненты» (за редким исключением – г-н на бульваре, Лужин, Верховенский, Ракитин) – Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков, старик Карамазов.
Различен тон пререкания – социально-морально сочувствующий или родственно любящий; но участливая вненаходимость автора в отношение героя неизменна.
Показательна в этом плане связь героев-антагонистов с героями-протагонистами; порой они как бы меняются позициями, местами (например, Мышкин и Ставрогин).
О типах исповедальности. Во-первых, они зависят от символа веры. Творческий метод, форма связаны с исповеданием автора. У Достоевского это Личность Христа, Лик Богочеловека. Отсюда значимость героя, отношений с ним автора.
По определению Померанца, автор мыслит характерами, судьбами героев (они автору почти конгениальны4). Порой он заветную идею озвучивает устами героя-протагониста.
И если исповеди Пушкина лиричны по истоку (присущи его поэзии, а проза иронична; позиция автора проступает через подачу характеров и ситуаций; Достоевский перенял его прием), то у Лермонтова – беспокаянны (едва ли не окаянны).
У Гоголя исповедь – надрывна (смирение паче гордости), у Достоевского же организована особым способом, через расстановку сил. Он – скрытый демиург своего мира, дирижер хора и оркестра, спикер (по выражению Померанца).
Он панорамно структурирует роман – как симфонию, систему, организацию и организм. Происходит это по его веленью, и по хотенью жизни. В итоге выходит не арифметическое среднее, а произведение, отличное от «произвола» автора, его идеи, замысла и диктата реальности; нечто, живущее не по законам логики и не по воле стихий, эмпирики. Иррацио образа отлично от «безумия» мира и от рассудка. Оно сродни безумию Креста, сотворенного Провидением вместе с соратником-соперником Творца.
Промысел любовно одолевает сопротивление материала, своеволие твари, что сотворена им же изначально пластичной, но со своей волей и разумением, вольной принимать ложное направление, лишь любовью приводимой к истине.
Художник со своей творческой волей, потенцией предстает образом и подобием Бога, порой неузнаваемо искаженным.
Выделю еще один нюанс в процессе творчества: образ-герой отливается в более или менее завершенную форму тогда, когда отношение к нему, носителю идеи (к ней самой), как-то определилось, наметилось ее оформление как знак завершения, прощания, расставания. В дальнейшем, если это мысль автора, она становится мыслью героя, живя своей жизнью.