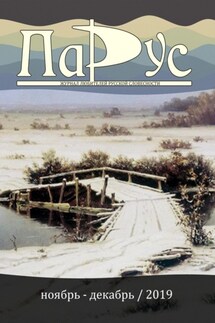Журнал «Парус» №79, 2019 г. - страница 25
У писателя человекобог – идея бредовая; любое умозрение – односторонне, условно, ложно как крайность. Автор заветную мысль, ощущая ее ущерб, реализует через героя, сюжет, сверяет экзистенциальный опыт с судьбой своих самоубийц. Узурпация прерогатив Бога, как и снятие с себя ответственности, возложение ее на Него, чревато Его поруганием как банкрота, навязывает Ему роль соглядатая, евнуха. Но Бог поругаем не бывает.
Оппозицией любой идее автор выставляет связь святости и мира, место праведника в мире, возможность спасения в миру; это тема гения и злодейства (гения и святости, ложно решенная Бердяевым)5. Отчасти это модель западного опыта мирской аскезы, скита в миру, феномена женатого монашества, братьев общинной жизни6.
Отвержение мира и Бога (и себя) отлично от самоотвержения любви. Но есть в логике оппонентов автора неотменимые свобода, достоинство образа и подобия. И мужество отчаяния взывает к участию.
В свой черед Алеша и князь – два уровня, способа реализации единого замысла о «положительно прекрасном человеке».
Автор явно не вполне удовлетворился результатом реализации идеи в Мышкине (точнее, фиксировал, реализовал в нем начальный этап своего понимания любимой идеи, вернувшись к ней через десять лет уже с иных, церковных позиций).
Видимо, не устроила не художественная выразительность, достоверность образа, а мировоззренческий план реализации.
В 60-е годы он был еще в плену социальных иллюзий 40-х годов относительно Идеала, в 70-е годы уже приблизился к исторической и духовной реальности, трезвей смотрел на жизнь и возможности реализации жизненных идеалов.
Потому претензии Леонтьева к Достоевскому относительно «церковности» его героев (тем самым и автора) приложимы к Мышкину, но не к «Братьям Карамазовым»7.
В князе автор простился с прежними иллюзиями. В «Идиоте» отчетливо влияние «внецерковной духовности» Ап. Григорьева и петрашевцев, в «Карамазовых» следы этого влияния практически отсутствуют.
Но вглядимся в связь Эстетики и Кредо. Давно замечено, если на Западе превалирует рождественскаярадость, то русская жизнь определяется пасхальнымликованием (прославлением Воскресшего Лика)8.
Пасха включает в себя Страстную, венчающую Пост, и Светлую, по Воскресении, седмицы. Их связует Пасха погребения, сошествия во ад. Как видим, Пасха проблемно многоаспектна: определяющие сегомирный и иномирный уровни в ней выделены вероисповедно: Запад взгляд фокусирует на Страстях, православие – на Пасхе.
В римском Розарии Пресвятой Богородице9 выделяется три венчика-части: Скорбная (страстная), Радостная и Славная (хвалитная). «На каждую тайну приходится 1 Отче наш и 10 Радуйся» (всего: 10 Отче и 150 Радуйся). Благой вестью «скорбь» даже здесь и сейчас (а не только в «жизни будущего века») претворена в «хвалу» жизни, кризисной в Ренессансе.
С XV века известен трактат Фомы Кемпийского (1379–1471), выходца из монахов-мирян, братьев общинной жизни, «О подражании Христу» («Imitatio Christi»), с тех пор изданный более двух тысяч раз. В России он переводился в XVIII–XIX вв. Сочинение имело общехристианское значение, его популярность объясняется обращением автора к проблеме спасения. Русские аскеты XIX века не приняли трактата, находя в нем «прелесть»10.
Перевод трактата обер-прокурором Свящ. Синода К. Победоносцевым (1898) корректирует его в сторону православия, но и свидетельствует о воздействии мира на скит и клир. Тогда же архим. Сергий Страгородский, полемизируя с католическим «спасением», пишет «Православное учение о спасении». Так возможно ли