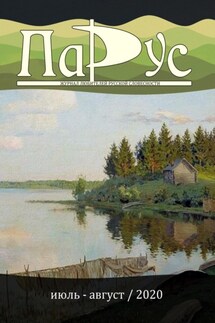Журнал «Парус» №83, 2020 г. - страница 21
Профессор Саратовского университета В. С. Вахрушев, обратившийся тогда же с возмущенным письмом в редакцию «НЛО» (см.: [Вахрушев, 1998]), защищая ученого от идеологических обвинений, впоследствии писал: «…следует заметить, что в настоящее время И. А. Есаулов занимает лидирующее положение в лагере <…> приверженцев “православного” направления в русском литературоведении. Среди прочих его адептов он наиболее академичен по стилю и характеру аргументации, наиболее авторитетен среди зарубежных славистов, одобряющих русскую ветвь православного христианства. Его труды – это отпор тем хулителям православной культуры русского народа, которые видят в ней лишь “сублимацию неврозов”, “комплекс неполноценности”, скрытое язычество и даже “сатанизм”» [Вахрушев, 2006: 215].
В 1996 году Есаулов защитил докторскую диссертацию «Категория соборности в русской литературе XIX–XX веков» в Московском государственном педагогическом университете (официальные оппоненты: В. Н. Захаров, Л. А. Смирнова, Б. Н. Тарасов, ведущая организация – МГУ). К защите поступили отзывы славистов из Кембриджского, Принстонского, Берлинского, Загребского и других отечественных и зарубежных университетов. По воспоминаниям участников, защита была в высшей степени неформальной и многолюдной, несколько напоминавшей аналогичные диспуты в исторической России (известные нам по биографическим источникам), длилась около пяти часов, причем – с непредсказуемым исходом.
Как заметил в свое время высоко ценимый Иваном Андреевичем Питирим Сорокин, резко поляризованная реакция типична «для подавляющего большинства крупных работ в науке, философии, изящных искусствах или религии. Только работы, в которых нет ничего нового и важного, которые не бросают вызов господствующим идеям, стилям или стандартам, только такие работы, если им вообще суждено быть замеченными, встречают несколько поощрительных откликов и быстро уходят в забвение, не удостаиваясь даже краткого надгробного слова…» [Сорокин: 166]. «Как правило, все нон-конформистские и пионерские идеи вызывают поначалу определенное сопротивление и критику» [Сорокин: 187].
В качестве главных своих научных (да и жизненных) ориентиров Есаулов называет, прежде всего, М. М. Бахтина и А. Ф. Лосева – тот и другой не были «чистыми» филологами, но стремились охватить и понять целое культуры6. По этому пути идет и Есаулов, каждая книга которого – «своего рода вызов (или ответ на вызов)» [Есаулов, 2015: 565].
В статьях и интервью исследователь не раз подчеркивал, что видит своей задачей восстановить те «фигуры умолчания», которые были неизбежны в трудах Бахтина, писавшего, как и Лосев, «под <…> несвободным небом» [Есаулов, 2017: 160]. В частности, Есаулов обосновывает понятие «большое время русской культуры», стремясь выделить и ввести в литературоведческий обиход трансисторические категории, лежащие в основе отечественной культуры: соборность, пасхальность, христоцентризм, закон, благодать. Большое время русской культуры, с точки зрения Есаулова, зиждется на понятии абсолютного мифа (как его обосновал Лосев) с категорическим постулатом Воскресения.
Это положение получило развитие в следующей монографии – «Пасхальность русской словесности». В ней вводится и обосновывается понятие