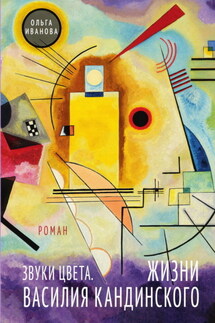Золотая чаша - страница 10
Мирон с первого дня стал называть хозяев да́дэ и дае (папа и мама). За ним взялся повторять и родной сын – Яков, что веселило хозяев: смышленый Яшка перенимал цыганские слова гораздо быстрее, чем Мирошка – русские.
К осени Соломония решила учить Софью грамоте. Достала из сундука старинные книги, велела хорошо вымыть руки… А к Успению отвела в церковно-приходскую школу, удивляясь и радуясь тому, с каким любопытством и интересом учится маленькая цыганка. Раздражало и пугало только то, что она порой принималась предсказывать, что будет завтра, или по весне, или на Пасху…
Однажды Софья, встав рано поутру, подошла к заплетавшей косу Соломонии и, прижавшись щекой, с грустью прошептала:
– Матушка… Как не хочу я от тебя уходить!
– Куда уходить? Ты чего это? – встревожилась Соломония.
– Нет, матушка, ты не поняла! Я не ухожу. А потом, когда большая вырасту…
– Зачем же тебе уходить? Тебе разве худо живется? Вырастешь, найдем тебе жениха красивого да богатого, тогда и уйдешь в его дом. А нынче живи и не думай ни о чем плохом!
– А когда Господь так велит… – всхлипнула Софья.
В другой раз она вместе с хозяином давала овес лошадям и долго стояла у денника любимицы Гавриила, серой кобылы Марты. Потом, обернувшись, тревожно сказала:
– Батюшка, беда с ней будет! Не запрягай сегодня!
– Чего ты все пророчишь! – досадливо произнес Гавриил. – Кого же запрягать? Ворона, что ль? Вчера полдня гоняли! Соловка ожеребится на днях, а Каурку ковать пора!
Он повернулся и пошел из конюшни. Но Софья повисла у него на руке, требовательно и даже немного угрожающе настаивая на своем.
– Ну что с тобой делать! Ладно, на Каурке поеду, – недовольно сказал егерь.
Вернувшись к вечеру, он зашел в конюшню и первым делом направился к деннику Марты. Та, как обычно, потянулась к хозяину, просясь на волю. Выругавшись про себя, Гавриил открыл денник, накинул на голову лошади недоуздок. Но едва вывел ее за ворота, как она, взбрыкнув, с тонким испуганным ржанием рванулась из его рук, бросилась назад, ударилась о косяк, пугая других лошадей непрерывным ржанием. Гавриилу и прибежавшему на лошадиный крик работнику удалось поймать кобылу, но никак не удавалось успокоить. Вихрем ворвалась в конюшню Софья, подскочила к серой. На веке кобылы вздувался фиолетовый волдырь. Густо-красный белок выкатывался наружу. Лошадь крутилась от боли, взмахивала головой, будто пытаясь отогнать слепня.
– Эй, держи! Держи, держи, батюшка, я жало вытащу! – звонко закричала девочка.
– Отойди, дочка, зашибет!
Но Софья, бормоча и вскрикивая по-цыгански, уже схватила лошадь обеими руками за ноздри, и та встала как вкопанная. Ловкими пальцами извлекла из кровавого пузыря жало дикой пчелы, показала Гавриилу:
– Во какое!
У хозяина тряслись руки и подгибались колени. А Софья, приподнявшись на цыпочки, закрыла ладонями глаз лошади и зашептала, задышала в лошадиный храп… Кобылка смирно стояла, только ушами прядала да пофыркивала.
Когда девочка отняла ладони, пузырь заметно сдулся и побледнел. Но Софья прошлась ладонями по шее лошади, серьезно сказала:
– Она еще грудь зашибла… полечить надо.
И потом до поздней ночи стояла в деннике у Марты, оглаживая, заговаривая, орошая лошадиную шерсть выкатившейся слезой…
Со скотом Софья управлялась ловко, будто здесь и росла. Лошади бегали за девчонкой как собаки, а собаки и вовсе признали в ней хозяйку. В особенности она подружилась с той самой рыже-белой Милкой, которая нашла их с Мироном, указала на них хозяину и съела их хлеб.