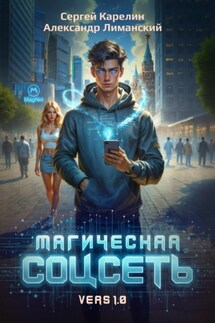Читать онлайн Борис Соколов - 100 великих филологов
© Соколов Б.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Никола Буало-Депрео
(1636–1711)
Французский поэт, критик и теоретик классицизма Никола Буало-Депрео родился 1 ноября 1636 года в Париже в семье секретаря парижского парламента Жиля Буало, богатого чиновника и адвоката. С 1643 по 1652 год Буало учился в коллежах Аркур и Бове Сорбонны и получил хорошее образование в области права и богословия, но предпочел стать поэтом и критиком. В 1646 году он принял духовный сан и стал каноником, так как из-за неудачной хирургической операции в 12‐летнем возрасте стал импотентом. После смерти отца Буало получил богатое наследство, что гарантировало ему большую пожизненную ренту. Он целиком отдался литературной деятельности. С 1663 года Буало стал публиковать мелкие стихотворения, а затем сатиры, вошедшие в его наиболее известный поэтический сборник «Сатиры» (Satires) (1660–1668), которому было предпослано теоретическое «Рассуждение о сатире». Большинство «Сатир» были обращены против уважаемых, но бездарных писателей-современников. Буало был убежден: «Не злобу, а добро стремясь посеять в мире, / Являет истина свой чистый лик в Сатире». С начала 1670‐х годов Буало стал близок ко двору, а в 1677 году король Людовик XIV назначил его, вместе с драматургом Жаном Расином, своим официальным историографом. Никола Буало-Депрео умер в Париже 13 марта 1711 года.
В афористической поэме-трактате в четырех песнях «Поэтическое искусство» (L’art poétique) (1674) Буало изложил эстетику классицизма. Он был убежден, что в поэзии, как и обыденной жизни, выше всего должен быть поставлен bon sens, т. е. разум или здравый смысл, который должен подчиниться фантазия и чувство. Еще в «Сатирах» Буало высказал мысль о том, что в поэзии смысл должен господствовать над рифмой, а не «покорствовать ей». Он предлагал поэтам: «К рассудку применись: пускай стихи твои получат от него все прелести свои». Буало полагал, что как по форме, так и по содержанию поэзия должна быть общепонятна, но легкость и доступность не должны переходить в пошлость и вульгарность, стиль должен быть изящен, высок, но в то же время прост и свободен от вычурности и трескучих выражений. Буало советовал поэтам не увлекаться внешними эффектами («пустой мишурой»), чрезмерно растянутыми описаниями и отступлениями от основной линии повествования, а придерживаться дисциплины мысли и самоограничения, а в стихах соблюдать разумную меру и лаконизм. Он предостерегал поэтов: «Остерегайтесь же пустых перечислений, / Ненужных мелочей и длинных отступлений! / Излишество в стихах и плоско и смешно: / Мы им пресыщены, нас тяготит оно. / Не обуздав себя, поэт писать не может». Автор «Поэтического искусства» был поклонником классической формулы Горация «поучать развлекая». Буало выступал против смешения жанров и потакания дурным вкусам читателей и зрителей: «Уныния и слез смешное вечный враг. / С ним тон трагический несовместим никак, / Но унизительно Комедии серьезной / Толпу увеселять остротою скабрезной. / В Комедии нельзя разнузданно шутить, / Нельзя запутывать живой интриги нить, / Нельзя от замысла неловко отвлекаться / И мыслью в пустоте все время растекаться. / Порой пусть будет прост, порой – высок язык, / Пусть шутками стихи сверкают каждый миг, / Пусть будут связаны между собой все части / И пусть сплетаются в клубок искусный страсти! / Природе вы должны быть верными во всем, / Не оскорбляя нас нелепым шутовством». Поэт утверждал роль страсти и силы в эстетическом опыте. Буало считал, что «Невероятное растрогать неспособно. / Пусть правда выглядит всегда правдоподобно…» Здесь он полемизировал с мнением драматурга Пьера Корнеля, утверждавшего, что «сюжет прекрасной трагедии должен не быть правдоподобным». Буало считал, что нельзя любоваться уродствами человеческих характеров и отношений, поскольку тем самым нарушается закон правдоподобия, и подобные приемы неприемлемы как с этической, так и с эстетической точки зрения. Поэтому художник не может просто запечатлеть факты, отразившиеся в истории или мифе. Он обязан критически подойти к ним и при необходимости отбросить или переосмыслить некоторые из них согласно законам разума и этики. Согласно этой теории, в пьесах наиболее острые моменты действия – убийства, разного рода ужасы и кровопролития – должны совершаться за сценой, так как «Волнует зримое сильнее, чем рассказ, / Но то, что стерпит слух, порой не стерпит глаз». В предисловии к собранию своих сочинений Буало писал: «Что такое новая блестящая необычная мысль? Невежды утверждают, что это такая мысль, которой никогда ни у кого не являлось и не могло явиться. Вовсе нет! Напротив, это мысль, которая должна была бы явиться у всякого, но которую кто-то один сумел выразить первым». Поэма Буало стала настоящим кодексом изящного вкуса, притом не только для Франции. Буало призывал в искусстве следовать природе. После публикации поэмы «Поэтическое искусство» при королевском дворе за Буало закрепился титул Законодателя Парнаса. А в 1684 году по повелению короля поэт был избран во Французскую академию. Однажды король Людовик XIV, согласно преданию, захотел, чтобы Буало оценил его стихи. Поэт остроумно ответил: «Ваше величество! Для вас нет ничего невозможного: вам захотелось написать плохие стихи, и вы сделали это». Канонами совершенной поэзии Буало объявил творения античных поэтов. Своей комической поэмой «Налой» (Le Lutrin, 1674–1683) он хотел продемонстрировать, что такое истинный комизм, и высмеял грубые фарсы современной ему комической литературы. В «Трактате о возвышенном» (Traité du sublime) (1674), представляющем собой перевод сочинений древнегреческого писателя Лонгина, и в «Критических размышлениях о Лонгине» (Réflexions critiques sur Longin) (1694–1710) Буало отстаивал превосходство античных поэтов над современными французскими. Лучшими же поэтами Франции своего времени он справедливо считал своих друзей Расина и Мольера. Он утверждал: «Лучше невежество, чем ложные знания», поскольку «Только истина прекрасна, лишь она любви достойна». Буало оказал большое влияние на русскую литературу XVIII века и, в частности, на таких поэтов, как А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков и В.К. Тредиаковский. Последний впервые перевел «Поэтическое искусство» на русский язык. Буало также является автором книг «Послания» (Épîtres) (1669–1695), «Диалог о героях романа» (Dialogue sur les héros de roman) (1688), «Письма Шарлю Перро» (Lettres à Charles Perrault) (1700), и др.
Никола Буало. Художник Г. Риго. 1704 г.
Уильям Джонс
(1746–1794)
Британский филолог, переводчик и востоковед, валлиец по национальности. Родился 28 сентября 1746 года в Лондоне в семье математика сэра Уильяма Джонса (1675–1749), который умер, когда сыну было три года, и Мэри Джонс, урожденной Никс, дочери столяра-краснодеревщика. С детства Джонс обнаружил необыкновенные способности к языкам, его называли «лингвистическим вундеркиндом». Еще во время учебы в школе Уильям, кроме своих родных английского и валлийского, выучил греческий, латынь, персидский, иврит и арабский, а также овладел основами китайской письменности. К концу своей жизни он свободно знал восемь иностранных языков, бегло говорил еще на восьми, имея под рукой словарь, и мог читать еще на двенадцати языках. Джонс учился в Хэрроу, одной из самых престижных школ Англии в 1753–1764 годах, а в 1768 году окончил Университетский колледж Оксфорда. В 1763 году, еще студентом, он сочинил на латыни поэму «Каисса» об изобретении шахмат, названную в честь вымышленной фракийской дриады, считавшейся в эпоху Ренессанса богиней шахмат. Джонс довольно быстро получил известность как филолог-востоковед. В 1773 году он защитил магистерскую диссертацию. После окончания Университетского колледжа Джонс в течение 6 лет работал репетитором и переводчиком. По просьбе короля Дании Кристиана VII он перевел с персидского на французский язык «Историю Надир-шаха» в двух томах (Muhammad Mahdī, Histoire de Nader Chah), написанную Мирзой Мехди ханом Астарабади. Этот перевод, вышедший в 1770 году, стал первой научной публикацией Джонса. В благодарность за сделанную работу король пожаловал Джонсу членство в Датской королевской академии наук и литературы. В 1770 году Джонс поступил в Миддл-Темпл и в течение трех лет изучал юриспруденцию, что стало подготовкой к работе в Индии. Он был избран членом Королевского общества 30 апреля 1772 года. В 1773 году Джонс также был избран членом Литературного клуба, а в 1780 году стал его президентом. Некоторое время он служил окружным судьей в Уэльсе. Во время Американской войны за независимость Джонс, поддерживавший независимость североамериканских колоний, вел безуспешные переговоры об урегулировании с Бенджамином Франклином в Париже, а в 1780 году столь же безуспешно баллотировался в парламент от Оксфорда.
Уильям Джонс. Гравюра с портрета кисти Дж. Рейнольдса. XVIII в.
4 марта 1783 года Джонс был назначен главным судьей Верховного суда в Форт-Уильяме, Калькутта, Бенгалия, а 20 марта был посвящен в рыцари. В апреле 1783 года он женился на Анне Марии Шипли, старшей дочери доктора Джонатана Шипли, епископа Ландаффского и епископа Сент-Асафского. Анна Мария использовала свои художественные способности, чтобы помочь Джонсу документировать жизнь в Индии. 25 сентября 1783 года они прибыли в Калькутту. Джонс увлекся индийской культурой и 15 января 1784 года основал в Калькутте Азиатское общество для ее изучения. Он познакомился с древнеиндийскими письменными памятниками, значительно усовершенствовал свои знания санскрита и перевел на английский язык многие важнейшие документы и памятники индийской истории. Иногда Джонс использовал псевдоним «Юнс Уксфарди», что по-арабски означало «Джонс из Оксфорда». В частности, под этим псевдонимом была опубликована его «Персидская грамматика» (A Grammar of the Persian language) (1771). Он сделал 11 ежегодных докладов перед Азиатским обществом о своих научных исследованиях. Джонс писал об индийских законах, музыке, литературе, ботанике и географии и сделал первые английские переводы нескольких произведений индийской литературы.
Уильям Джонс умер в Калькутте 27 апреля 1794 года от болезни печени.
За время своего пребывания в Индии Джонс опубликовал много работ по Индии, положив начало ее научному изучению практически во всех гуманитарных науках. В своей речи по случаю третьей годовщины образования Азиатского общества» 2 февраля 1786 года (Third Anniversary Discourse to the Asiatic Society) (1788) он предположил, что санскрит, греческий и латинский языки имеют общую основу и что все они могут быть связаны, в свою очередь, с готским и кельтским языками, а также с персидским. Джонс постулировал существование протоязыка, общего для санскрита, персидского, греческого, латинского, германского и кельтского языков. Он утверждал: «Пять основных народов, которые в разные века делили между собой, как своего рода наследство, обширный Азиатский континент и многие близкие к нему острова, – это индийцы, китайцы, татары, арабы и персы. Что это были за народы, откуда и когда они пришли, где они располагаются сейчас, и что нам сулит более глубокое их изучение, будет сказано, как я надеюсь, в пяти различных докладах, последний из которых продемонстрирует сходство или различие между народами и ответит на главный вопрос: есть ли у них какие-нибудь общие корни, и те ли это корни, которые мы обычно для этих народов устанавливаем». По поводу Индии он утверждал следующее: «Можно только пожалеть, что ни те греки, которые сопровождали Александра в его походе в Индию, ни те, кто долгое время был связан с этой страной в правление бактрийских князей, не оставили нам ни малейшей возможности узнать, какие местные языки они обнаружили, прибыв в эту империю. Мусульмане, насколько нам известно, слышали, что люди с полуострова Индостан, то есть из Индии, говорили на бхаша, живом языке весьма необычного строя, самый чистый диалект которого был распространен в местностях вокруг Агры, и главным образом в поэтической местности Матхура; его обычно называют языком Враджи. Возможно, пять из шести слов этого языка восходят к санскриту, на котором сочинялись религиозные и научные труды и который, судя по всему, создавался, как следует из его названия, путем тонкой грамматической систематизации из некого неотшлифованного говора. Но основа хиндустани, в особенности флексии и глагольное управление, так же отличается от обоих этих языков, как арабский от персидского или немецкий от греческого. Сейчас последствия завоевания для языков завоеванных народов в целом таковы, что эти языки остаются в своей основе неизмененными или изменяются лишь слегка, но заимствуют значительное число чужеземных слов, обозначающих как предметы, так и действия. Так было во всех случаях, какие приходят мне на ум, когда завоеватели – турки в Греции или саксы в Британии – не сумели уберечь свой язык от смешения с языком завоеванных. Такого рода аналогии могли бы заставить нас поверить, что чистый хинди татарского или халдейского происхождения был исконным языком Верхней Индии, куда санскрит был принесен в очень далекие времена завоевателями из других государств, ибо мы не можем сомневаться, что язык Вед использовался на обширных территориях страны (что уже отмечалось прежде), поскольку религия брахманизма в этой стране возобладала». Джонс так сформулировал суть сравнительной лингвистики: «Санскритский язык, какова бы ни была его древность, обладает удивительной структурой, более совершенной, чем греческий, более богатой, чем латинский, и более изысканной, чем каждый из них, но носящий в себе столь сильное сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в формах грамматики, что оно не могло быть порождено случайностью; родство настолько сильное, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих трех языков, не сможет не поверить тому, что все они произошли из одного общего источника, который, быть может, уже более не существует: имеется аналогичное основание, хотя и не столь убедительное, предполагать, что и готский, и кельтский языки, хотя смешанные с совершенно различными наречиями, имели то же происхождение, что и санскрит; к этой же семье языков можно было бы отнести и древнеперсидский, если бы здесь было место для обсуждения древностей персидских».