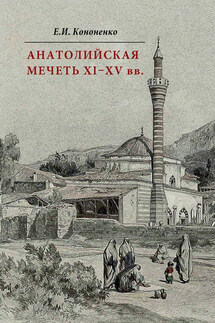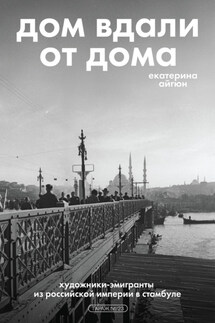Анатолийская мечеть XI–XV вв. Очерки истории архитектуры - страница 12
Спустя два десятка лет Г. А. Пугаченкова повторила вывод о том, что «внутри государства Великих Сельджуков архитектура отнюдь не являла комплекса стилистически единых качеств»,[56] и качества эти не могли определяться этническим фактором, т. е. тюркизацией Южного Туркменистана, Северного Ирана и Анатолии. Она указала, что термины «сельджукский» и «караханидский» «едва ли уместны в историко-архитектурной номенклатуре, так как сами по себе не определяют ни времени, ни определенных территорий, ни подлинных причин развития местного зодчества».[57] Ее коллега Л. И. Ремпель, исследуя строительные конструкции и архитектурный декор Туркменистана, также ограничился лишь констатацией «сельджукской проблемы».[58]
Даже С. Г. Хмельницкий, подробно и поэтапно описавший развитие доисламской и раннеисламской архитектуры Средней Азии и опирающийся на огромный корпус исследований, резюмировал: «Попытки найти некий тюркский дух или тюркский стиль в монументальных зданиях, строившихся в годы правления тюркских династий – Караханидов, Газневидов и Сельджуков, – оказались безуспешными уже потому, что у вчерашних кочевников не было навыков и традиций строительного искусства. <…> Видимо, переход политической власти к завоевателям-тюркам не оказал заметного влияния на характер архитектуры Средней Азии и не изменил процесс ее эволюции».[59]
Пожалуй, наиболее «знаковым» типом сельджукской архитектуры является центрический мавзолей-тюрбе, – квадратный, многогранный, крестовидный либо круглый в плане, имеющий коническое шатровое (реже сферическое) завершение. Эти мавзолеи-«карандашики» появляются во всем «сельджукском ареале» – в Средней Азии, в Иране, Анатолии, Закавказье.
Появление не одобряемых исламом мемориальных построек и их количественное преобладание над другими типами мусульманской архитектуры в Средней Азии связывается с распространением на фоне ослабления власти Халифата суфийских учений, с одной стороны акцентировавших почитание (в т. ч. посмертное) праведников и наставников-шейхов, а с другой – адаптировавших доисламские культы, в т. ч. связанные с определенными местами.[60] Архитектурный тип центрического мемориального сооружения возникает уже в VII в. в иерусалимской Куббат ас-Сахра,[61] закрепляется в IX в. в самаррской Куббат ас-Сулайбийя и в упрощенном виде – без обходной галереи – кристаллизуется в X в. в бухарском мавзолее Исмаила Самани.[62] Большинство архитектурных типов мавзолеев имеют доисламские прототипы, кроме восьмиугольных в плане купольных тюрбе, – их появление С. Хмельницкий объяснял западными (от Халифата до Византии) влияниями и связал с развитием октагональных подкупольных конструкций: характерные для них перекрытия из двух оболочек (внутренний купол и внешний шатер) «неизвестны в среднеазиатской архитектуре IX–X вв.».[63]
Однако был ли тип шатрового тюрбе-«карандашика» принесен сельджуками из Средней Азии? Наиболее ранний шатровый мавзолей Бабаджи Хатун близ Тараза осторожно датируется XI в.;[64] т. н. мавзолей Фахреддина Рази в Ургенче – II пол. XII в.;[65] коническое завершение бухарского мазара Чашма Айюб выполнено не ранее XII в.;[66] руинированные либо плохо исследованные памятники – Чугундор-баба в Куфене,[67] Зулпукар в Таласской долине[68] – имеют расплывчатую датировку XI–XII вв. В Иране шатровые мавзолеи строятся примерно тогда же – Бурж-и Михмандаст около Дамгана построен в 1097 г., башня Тогрула в Рее – в 1140 г. Кроме того, происхождение кирпичных башенных шатровых мавзолеев Ирана с сельджуками вряд ли связано, – достаточно назвать покрытый конусом знаменитый «карандаш» Гунбад-е Кабус в Гургане