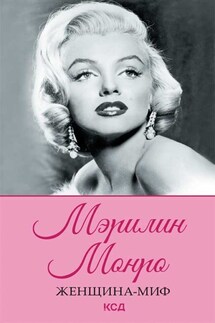«Андрей Кончаловский. Никто не знает...» - страница 48
«Окружение тирана – или холуи, или люди, которые его боятся и ненавидят, поэтому любое нормальное человеческое лицо в таком окружении было для Сталина дорого. У него были свои любимые охранники, с которыми он играл в шахматы, разговаривал о жизни, пел песни. С этими людьми он чувствовал себя нормальным человеком – я могу понять это. Для остальных он был совсем другим, и они для него тоже были другими. Поэтому воспоминания сталинского киномеханика очень субъективны, но они как раз и подчеркивают ужас, трагедию – и Сталина, и нации».
Исследуя национально-культурный феномен «иванизма», Кончаловский увлеченно погружается и в постижение природы тоталитарной власти, причем со стороны всеобщего преклонения, ужаса перед ней и в то же время – рабской к ней любви.
Что же так влечет к властно возвышающемуся тирану, понуждая доискиваться корней его магнетизма? Может быть, то обстоятельство, что тиран всегда ходит рука об руку со смертью и, убежденный в собственном бессмертии, презирает трепет ужаса перед ней, которым полнится душа любого из нас? Отсюда, возможно, и податливость целого народа регламенту его властной игры, и невероятные, по мнению современников, посягательства метафизически чуткого Пастернака на разговор с вождем «о жизни и смерти».
В «Жизнеописании М. Булгакова» Мариэтта Чудакова ставит вопрос о «состоянии отечественных интеллигентов в середине 1930-х годов». Она полагает, что, возможно, объяснительную силу имеет «аналогия с гегелевским «абсолютным духом», которому уподобляло Сталина в середине 30-х годов восприятие философски образованных сограждан».
А культуролог Л. Баткин видит здесь социально-исторический парадокс, когда «во главе режима, перевернувшего мировые пласты и унесшего миллионы жизней», оказалась посредственность. «Иванизм», если следовать логике Баткина, – «обыкновенный сталинизм», «скоморошья гримаса истории».
Сталинский режим перемолол все лучшее – ив народных низах в том числе. В действие пришел принцип «последние станут первыми». Историческая ломка выдавила на поверхность тот человеческий материал, из которого к концу тридцатых годов сформировалась «новая порода управляющих», читаем в статье Баткина «Сон разума». Индивидуально они могли быть разными, но как «выдвиженцы» они сближались. И «со временем воспроизводство по принципу конформности, серости делало исключения практически почти невозможными». «Это деклассированные люди, сбившиеся в стаю, в новый класс «руководителей». Они ничего не умеют и толком ничего не знают, но они умеют «руководить»…
Так начинался путь от Сталина к Брежневу и далее, когда неслыханный в мировой истории основной принцип воспроизводства государственной касты состоял в том, что «вменялась серость». Явилась, по выражению культуролога, новая бюрократия – «серократия».
Так «вызревал, формировал себя политический режим, который не «создан» Сталиным и не «создал» Сталина, а скорее рос вместе с ним как СТАЛИНЫМ». Режим, фактически исчерпавший себя уже в фигуре Брежнева.
Вот эта скоморошья ухмылка Истории, с молчаливого согласия наших Иванов, помогла «серократии» учредить насильственные правила властного антикарнавала, которые Кончаловский, хотел он того или нет, воспроизвел в «Ближнем круге».
С.В. Михалков так или иначе должен был войти в среду новообразовавшейся советской бюрократии («серократии»). Правда, произошло это намного позднее, чем с другими его коллегами – А. Фадеевым или К. Симоновым. Оказавшись в этой среде, он должен был подчиняться ее неписаным правилам. Не потонуть окончательно в болоте «серократии» ему помогали природный юмор, талант, то детское, что жило в нем и замечалось окружающими. Ведь сказал же кто-то, что он вовсе не был детским поэтом, просто лирическому герою его стихов всегда было лет шесть…