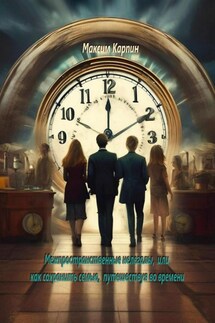Андрей Вознесенский - страница 88
Автопортрет мой, реторта неона
Самолет приземлил его в нью-йоркском Айдлвайльде. Именем тридцать пятого президента США аэропорт назовут два года спустя – после гибели Джона Кеннеди. Прозрачная невесомость махины аэропорта встретила выпускника Архитектурного – какие там коровники в амурах! – овеществленной грезой футуристов мира. Подбирая слова, Вознесенский позже ошарашит читателей именно таким, адекватным восторгу футуриста, росчерком пера: «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот – / аэропорт!»… Это прозвучит внезапно и вызывающе ярко, строчки будут цепляться и запоминаться сами собой – а потому покажутся возмутительными: как это можно? Мальчишка исчо – к аэропортам свои портреты примерять! Даже Ахмадулина ахнет: «Оторопев, он свой автопортрет / сравнил с аэропортом – это глупость».
А «глупости» тут никакой – картинка отчетлива. Взгляд сквозь стекло аэропорта и есть «автопортрет» – отражение лица и всего, что позади, сливается с потоком жизни впереди, за стеклом. Вот примерно как на картине «Бар в Фоли-Бержер» Эдуарда Мане: мужчина смотрит на девушку за стойкой, видя одновременно ее и что у нее за спиной, и в отражении зеркала – себя и все, что за спиной у него. Нечто похожее видит в отражении «на толще чуждого стекла» в берлинском кафе желто-серый, полуседой Владислав Ходасевич: «И, проникая в жизнь чужую, / вдруг с отвращеньем узнаю / отрубленную, неживую, / ночную голову мою». Правда, взгляд Вознесенского, в отличие от ходасевичевой безнадеги, – иной, он бодр, он видит будущее, «где нет дураков / и вокзалов-тортов – / одни поэты и аэропорты!».
С кем Вознесенский, открывающий Америку, вступает в диалог – подчеркнуто и сразу, – это Маяковский. «Как глупый художник / в мадонну музея / вонзает глаз свой, / влюблен и остр, / так я, / с поднебесья, / в звезды усеян, / смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост» – это у Маяковского. Мост, потрясший когда-то Владим-Владимировича, – дело прошлое. У Вознесенского уже: «Бруклин – дурак, твердокаменный черт. / Памятник эры – / Аэропорт». Вот где – «преодоленье несущих конструкций» и «вместо каменных истуканов / стынет стакан синевы – / без стакана»!
Откуда этот образ ослепительно-независимой синевы, можно было только гадать: придет же такое в голову. Но нереальность метафоры вполне доступна воображению. Скажем, все домохозяйки в шестидесятые при стирке непременно пользовались «синькой»: порошок из крахмала с берлинской лазурью (или индигокармином) разводили в стакане – эту синеву добавляли при полоскании белья – и оно волшебно становилось белоснежнее белого. Что может быть общего у этого стакана нью-йоркской синевы – скажем, с березами в Ингури? А в аэропорту у Вознесенского «брезжат дюралевые витражи, / точно рентгеновский снимок души». И в родных березах то же зеркало души: «Люблю их невесомость, / их высочайший строй, / проверяю совесть / белой чистотой».
Однако пора. Поэтов (как и писателей), прибывших из Советской страны, уже везут по стране Американской. Встречи, виды, застольный френдшип. Перед поездкой их предупреждали: подсунут буржуазные соблазны – прочь бегите. На дворе пусть и холодная, но война, ни шагу поодиночке, без руководства делегации в контакты не вступать. Иначе… Ну, непонятно, что иначе, – но чтобы ни-ни, и не думайте. А как было не думать? Вознесенскому, например, еще и тридцати не было, – самый возраст думать и все такое прочее.