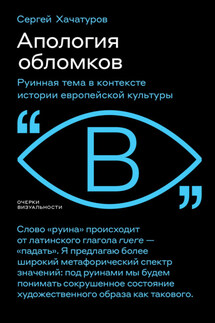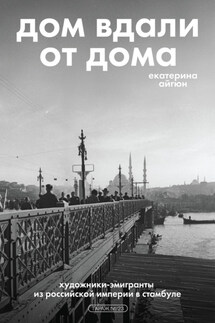Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры - страница 6
(Перевод С. Шервинского)
Пройдет много веков и в XVII столетии (около 1638) столп французского академизма Никола Пуссен создаст картину «Et in Arcadia ego» / «Аркадские пастухи». Три юноши и девушка, прекрасные собой, застыли в мечтательной тишине у надгробного памятника с латинской надписью Et in Arcadia ego / «И я в Аркадии».
В стране блаженных тоже есть смерть – таков смысл надгробной надписи. Созерцая надгробие именно как руину чьей-то прожитой жизни, прекрасные греки Пуссена находятся не во власти страха от столкновения с загробным царством, а, по словам Панофского, «в сладостном раздумье о прекрасном прошлом». Историк искусства делает важный вывод: луврское полотно Пуссена изображает «созерцательную сосредоточенность на идее смертности»9. Элегия Вергилия помогает найти ключ к созерцанию меланхолии руин. Подарок античной культуры принят с благоговением.
Глава II. Средневековая эсхатология и практицизм
С наступлением эры христианства тема руин стала неотъемлемой частью мировоззрения человека. В античности гетеротопные, руинированные места достигались героями в результате неких опасных странствий за все мыслимые пределы здесь-бытия. Однако мир иной, царство Аида, все равно включался в некий циклический круговорот представления о жизни – смерти – жизни… Не случайно на римских саркофагах чаще изображались дионисийские мистерии. Выдающий пример: саркофаг из собрания министра народного просвещения эпохи Николая I Сергея Уварова из коллекции ГМИИ. Он датируется 210 годом новой эры. Его в XVII веке копировал Питер Пауль Рубенс и сделал вариации на тему изумительных рельефов саркофага в своей картине «Вакханалия», что тоже хранится в ГМИИ.
Специалист по искусству античной Греции Людмила Акимова очень точно охарактеризовала саркофаг как место встречи жизни и смерти. Сюжет сцен саркофага таков: Дионис находит спящую Ариадну, женится на ней, воскрешает ее к новой жизни. По периметру разворачиваются шествия свиты Диониса с буйными друзьями и подругами (менадами, сатирами), а также Дионисийские мистерии. Много театральных масок. Маски делают лицо вечно изменчивым. Живые становятся мертвыми, мертвые вновь оживают… «Танец жизни – бесконечен», – резюмирует свою статью о саркофаге Людмила Акимова10.
Евгений Митта. Вариация на тему «Вакханалии Рубенса» и Уваровского саркофага из коллекции ГМИИ. Фломастер. 2021. Собрание Сергея Хачатурова
С наступлением христианства история стала двигаться векторно, в одном направлении. Апокалиптические ожидания конца света рассеяли сюжеты античных эклог по поводу круговращения жизни и странствий к иным рубежам. Время пришло в культуру со всей неотвратимой и невозвратной, безжалостной силой. Воспринимать его лирически, но по-новому, люди еще не научились.
Количество руин стало расти пропорционально ходу истории. Любой взгляд назад сулил лишь ландшафт с развалинами, о чем напишет впоследствии философ Вальтер Беньямин, рассматривая рисунок с Ангелом Истории Пауля Клее.
В самой Библии все ветхозаветные истории создают пейзаж постоянно растущих руин: уничтоженные города, покоренные царства, наконец, самый главный символ прогневавшей Бога гордыни помыслов людских – Вавилонская башня, руина человеческого тщеславия. И ни один руинированный город нельзя уже перенести в новое место и возродить, как Эней перенес и возродил погибшую Трою в новом Риме. Символическое миросозерцание допускало нерушимость и воплощенность лишь одного Града Небесного, Небесного Иерусалима, в сравнении с которым любой град земной лишь бренный слепок, руина.