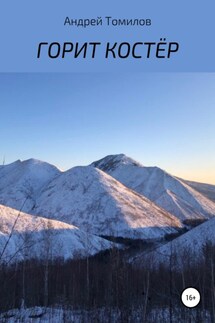Белые одежды. Не хлебом единым - страница 111
Он подметал, сгоняя в кучу какие-то бумажки и, между прочим, чей-то портрет на почтовой открытке. Федор Иванович узнал – это был Рахманинов, коротко остриженный, почти наголо. Выхватив открытку из-под веника, он стал протирать ее платком:
– Эту открытку я забираю себе.
– А я не отдаю. Променять могу.
– Так ты же кровать такую даром отдаешь!
– Если возьмешь кровать, и Рахманинова бери. А так – нет. Так – только за эквивалент. Я видел у тебя ботиночки летние, видные такие, с дырками. Давай на них.
– Они же ношеные!
– Ничего. Еще год проходят.
– Ну что ж… Считай, они твои.
– Мне еще нравится твой пиджачок. «Сэр Пэрси», так ты его зовешь. Что хочешь за него? Могу вот Оскара Уайльда. Чего молчишь? Хочешь вот Есенина? Правда, только один том. С березами, первое издание.
– Странно как-то… В общем-то, конечно! За Есенина давай…
– Принеси сначала «сэра Пэрси».
– Он же на тебя не налезет, Кеша.
– Это моя печаль. Похудею.
Какая-то новая странность открылась в этом Кеше. Он явно что-то задумал. Какой-то свой невиданный шахматный ход.
– Ты это самое… Скажи мне: берешь кровать? Не бойся, клопов нет. Не хочешь платить – не надо, бери так. Ты, я вижу, не веришь. Представь, дарю! Накатила щедрость…
Не говорить бы ему этих слов – о щедрости. Федор Иванович сразу почуял маскировку. И сам ушел в тень.
– Хорошо. Приду еще и заберу. Спасибо, Кеша.
– А ты не можешь сегодня? И потом доложишь, как понравится даме. Обязательно! Это будет твоя плата. Договорились?
Дурачок! Он был весь как на ладони. Свихнулся от своей дамы.
– Нет, сегодня не заберу. – Федор Иванович с грустью на него посмотрел. – И вообще… Надо еще транспорт… Нет, в ближайшее время не смогу.
И сразу Кеша засуетился, глаза забегали.
– Надо же мне что-нибудь на память тебе… Возьми вот скрепки. Коробочку. Ты таких никогда не видел. Заграничные.
Федор Иванович, быстро взглянув на него, взял коробок. Неудачно выдвинул картонный ящичек, и на пол со стуком просыпалось штук десять больших канцелярских скрепок для бумаги. Они действительно были особенные – оранжевые, блестели эмалью. Федор Иванович, присев, стал собирать их. Собирая, он думал: «Да, конечно, у нее мог быть и муж. Почему не быть?.. Когда люди сходятся в нашем возрасте, каждый приносит свой чемодан, и не пустой. И заглядывать туда нельзя». Он собирал скрепки, а Кондаков наблюдал, оскалив непонятную полуулыбочку.
– Учитель, а не понял, почему дарю. Эти скрепки – особенные. Они помогут тебе глубже понять и оценить красоту женщины.
Федор Иванович поднялся, внимательно посмотрел.
– На женщину надо каждую секунду смотреть, Федя. Стой на цыпочках, как будто лезгинку танцуешь, и не своди глаз. Каждая женщина – необыкновенное явление. Неповторимое.
– Но ведь во всех сидит Модильяни, – заметил Федор Иванович.
– Не мешай! – вдруг озлился Кеша. – Я тебе этого не говорил никогда! Ты лучше слушай, – голос его стал тихим. – Ты слу-ушай. Когда она разденется… Когда шагнет к тебе, она увидит эту коробочку. А ты ее заранее подставь. На видное место. И еще лучше, если нарисуешь на ней собачку смешную. Она схватит, обязательно схватит! И пальчиком тык туда. И все скрепки рассыплются по комнате. Ах! – кинется их собирать, забудет все. Федька! Это такие движения! А ты смотри! Смотри! Не упусти ничего. Это пятьдесят процентов познания жизни! Больше никогда такой живой красоты не увидишь. Чудо! Пик жизни! Пройдет, и все – жизнь пролетела. И не вернешь. Я там донышко выдрал, в коробке. Как ни повернет – все равно рассыплются.