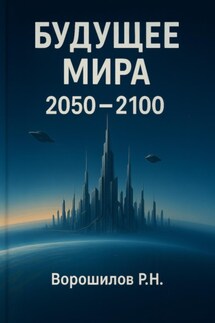Береги косу, Варварушка - страница 10
По пути к морю вертятся льдины, трутся, переворачиваются, потому и реке чистый снег достается. Наши летние ночи так и называют белыми – что-то да светится на воде, темноту разгоняет. В это светлое время и работали больше обычного, сил на разное дело хватало.
«И дело было общее, и радость единая», – бабушкины слова. А я помню только белые льдины на темной воде – не дело, а образ его. Сколько раз хотела Файке, младшей сестре, рассказать ледоход во всей его полноте, но только льдины описала.
– Ма-а-ар-фо-о-у! Где-е ты?! Марфа! Иди домой! Разве в такую серь пробьется река?! Другой день выберет! Не найти мне тебя в такую ситуху, ажно в глазах рябит… Ма-ар-фо-о-о-у-у-у!
Бабушкин голос катался по угору. И правда, лучше не скажешь – вокруг ситуха началась. Будто снег через сито на небе просеивают. Мелкий, частый снег. Трудно идти и видеть, но постепенно будто зорче становишься, смотря на мир через белую рябь.
Разглядела – ворона летела стремительно вниз. С верхней ветки прямо на лед. Серые крылья стали серым пятном. Раньше смотрела с угора во все стороны, думала: вот бы несколько жизней, как же в одну уместить всё, что вижу вдалеке? А теперь думаю, как бы одну не обронить.
– Бабушка, я иду!
На Кулойские угоры повадились волки.
В темное время ходят, в светлое пока что побаиваются. Волки таскают собак. Наутро проснешься, а у будки цепь и косточки. Сама не видела и видеть не хочу. Бабушке рассказывают, а она мне.
Многие стали собак в дома заводить на ночь или хотя бы с цепи отпускать, чтобы сами спрятались. Порой хозяева забудут их с утра привязать, вот и бегают собаки по угорам.
Первое время, когда отпустили собак, я никуда далеко не ходила. До лиственницы – и скорее домой. С детства собак боюсь, это у меня от мамы. Она как от огня побежит, если собаку увидит. Мой страх поменьше – лая собачьего боюсь. Бабушка надоумила кусок хлеба с собой брать. Мало ли встретится. Брошу в сторону и скорее убегаю, пока тихо. С хлебом стало не так страшно.
Я думала, волки из леса пришли. Леса тоже всегда опасалась. Он дремучий в наших краях, своей жизнью живет, сам себе на уме. Видно, и лес был не готов к такой длинной зиме. Даже волки нахолодались, наголодались, вот и пошли к людям, к реке.
Оказалось, волки идут с того берега. Сначала не поверила бабушке, а она говорит, и раньше волки из-за реки приходили зимой, обычное дело. Тем более за рекой нежилые места, а у нас, на правобережье, чем-то да поживятся.
– Бабушка, разве не Андельские угоры были за рекой? Выходит, волки с Андельских идут?
– Ой, Марфуша, на воде вилами писано, что Андельские были напротив Кулойских. Так мне бабушка Марфа говорила, но что ты хошь от столетней старушки? Может, она чего и напутала.
А я верю бабушке Марфе. Она мою бабушку вырастила, как родную. В соседнем доме жила, он и сейчас держится, навещают его внуки и правнуки. Разминулась я с бабушкой Марфой на земле, но верю в ее твердую память. Чему еще верить, если не памяти? На ней Беловодье всегда стояло. Прожитое редко записывали, человек передавал человеку – доверия больше было, чем бумаге. Пока что-то помнится, значит, живет. Так в ста́ринах сказано, которые я с детства запоминала за всеми подряд.
Бабушка Марфа владела словом, и я будто услышала его голосом моей бабушки. А если подумать… слово могло и раствориться, а с ним и память накопленная. Не знаю, помнят ли слово бабушки Марфы ее внуки. А Манефа, бабушка моя, – не родня ей, просто девчушка, которую жалко, без отца растет, пускай иногда забегает, кто ей печь натопит, пока мать на работе, – запомнила слово и в свой дом принесла. Многое в нашем доме окутано словом бабушки Марфы, ее житейскими мудростями. Только сейчас начинаю понимать это, а бабушке Манефе и не нужно понимать. Пускай живет по своей вере, лишь бы речь ее дольше была ясной. Тогда и на мой дом, и на Файкин ясного слова хватит.