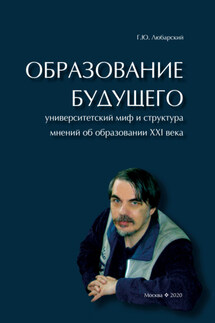Биологическая систематика: Эволюция идей - страница 22
3.1. Античные корни
Род… определяет нечто большее, чем вид: тот, кто говорит «живое существо», охватывает нечто большее, чем тот, кто говорит «человек».
Аристотель
«Официальную» историю систематики – в данном случае совершенно законно говорить о протосистематике – принято вести от двух величайших философов Античности – Платона и Аристотеля, творивших в IV веке до н. э.: их представления о мироздании оказали исключительное влияние на развитие философии и науки в Европе. Эти два мыслителя, учитель и ученик, – авторы (точнее, наиболее полные для своего времени выразители) двух существенно разных натурфилософских учений о мироустройстве, в настоящее время известных как объективный идеализм и эссенциализм. Ради справедливости (в скобках) следует заметить, что ключевые положения этих учений представляют собой развитие основополагающих идей учителя Платона – Сократа (Σωκράτης; ок. 469–399 до н. э.).
Примечательно, что то была воистину одна из величайших эпох в истории человечества. Приблизительно в это же время между реками Индом и Гангом принц Сиддхаттха Гаутама достиг просветления и стал Буддой Шакьямуни – последним (ныне действующим) из семи Будд древности, от его «четырёх главных истин» ведёт отсчёт современный буддизм. Приблизительно в это же время живший в междуречье Янцзы и Хуанхэ мудрец Лао-цзы изложил основы даосизма в трактате «Канон Пути и благодати» («Дао дэ цзын»). На развитие систематики в той её форме, которая сложилась к настоящему времени, эти восточные мыслители-мистики влияния практически не оказали. Однако составляющий основу восточного пути познания интуитивизм всегда присутствовал и присутствует в систематике, а включение элементов восточного мировосприятия в неклассическую науку (Капра, 1994) сделало интуитивизм законным компонентом познавательной ситуации в систематике (см. 6.1.1, 5.2.1).
В основании философской доктрины Платона (Πλάτων; наст. имя Аристокл, Αριστοκλής, Платон – прозвище, означающее «широкоплечий»; 428–347 до н. э.) лежит представление об идеях (греч. si5oо) как постоянных и вечных основах мироздания, их воплощениями служат вещи и отношения между вещами – изменчивые и преходящие. В этой мировоззренческой доктрине идеи столь же реальны, как и вещи: умопостигаемая идея лошади («лошадность») не менее реальна, чем наблюдаемая лошадь; принципиальное отличие между ними в том, что «лошадность» вечна, а конкретная лошадь смертна. Идеи представляют собой результат последовательной эманации Единого – начала всего сущего, архе (греч. άρχή), при этом чем дальше от него и ближе к своему материальному воплощению конкретная идея, тем меньше в ней полноты и совершенства Единого. Как видно, в этом учении в неявном виде заложено представление об иерархической организации Вселенной, из чего логически вытекает дедуктивный способ познания: чтобы понять некое частное воплощение целого, нужно прежде понять само целое и соотнести с ним это частное. Для этого более всего подходит алгоритм, позже названный родовидовой схемой деления понятий (см. 3.2). Эти общие представления об идеях и соответствующая им познавательная модель наличествуют у Платона лишь как ряд смутных намеков, изложенных в некоторых его диалогах (прежде всего «Федон», «Софист»), но не как чётко сформулированное учение (Лосев, Тахо-Годи, 1993). Всё это было позже разработано неоплатониками и затем схоластами (см. 3.2) и в их интерпретации вошло в понятийный аппарат систематики. В последней элементы платонизма сыграли исключительную роль в понимании иерархической формы построения Естественной системы, в развитии ранних представлений о гомологии (см. 4.2.5).