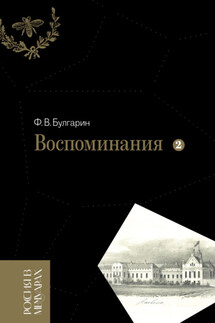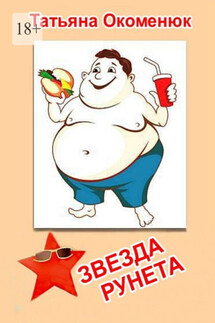«Благо разрешился письмом…» Переписка Ф. В. Булгарина - страница 29
. Нетрудно было бы пояснить, насколько странны и неприличны подобные ваши измышления. Но будьте уверены, что ни излишние напоминания, ни подозрительность, оскорбляющая честь, не могут ни побудить меня писать, ни возбудить во мне какое-то чувство обиды. Впрочем, можете и дальше меня обижать, если вам угодно, но не пеняйте на меня за то, что я об этом писать более не буду – ни в шутку, ни серьезно. Перехожу к делу. Пожалуйста, обратите внимание на следующие места: в них надо там прибавить, там убавить, там изменить так:
В части о критике[190]. Во-первых: Такова судьба исторических писателей, что, при величайшем их критическом усердии и усиленном трудолюбии, они не в силах избегнуть недосмотров и неточностей. В исследованиях Карамзина, когда вникнем в подробности, нам не всегда покажется верным то, что вероятно. Из числа исторических источников мы редко осмелились бы предпочесть летописи актам и грамотам, так как нам кажется, что летописные повторения не могут оправдывать явного несоответствия. Некоторые возникающие от этого затруднения нам придется рассмотреть, когда перейдем к подробностям[191].
В части о рассказе и изложении[192]. Во-вторых: Также и польский писатель[193]‚ не изображая ясно отдельные картины, постоянно обращает внимание на внешнее политическое положение, ясно рассматривает, насколько оно находится в связи с политической ситуацией внутри страны, и не забывает внутренней политики, обращая особое внимание на усиление аристократии. Русский писатель, полагая, что читатели знакомы с внешнею политикою, изображает только одну внутреннюю и излагает ее только в исключительных случаях и описывает без исследования, не трактуя ее изменения как явление постоянное. Политику соседей затрагивает не во всей целости, но насколько она в связи с внутренней, etc.[194]
В-третьих: Также и Нарушевич не избегает приводить противоположные мнения и слова, хотя он при этом экономнее и в каждом случае придает цитатам свойственный им характер. При изложении подробностей одним из главных затруднений является описание характеров. Искренно сознаюсь, что в этом отношении меня не удовлетворяет талант историографа, достойный удивления во многих случаях. Предлагающие правила писать историю советуют избегать подобных картин, так как есть средство ознакомить с личностью посредством описания ее действий. Даже, по большей части, историк знакомится с характером и наклонностями лиц по их делам. Что же, если описание характера будет противоречить действиям? Появляется тогда неразгаданная загадка, или нестройное сочинение, которому недостает ясности и правды. Когда на одной странице восхваляется добродушие, а на другой мелькнет строгость, тогда надо чего-нибудь более, чем восхваление добродушия, чтобы это добродушие не подверглось сомнению. Когда на одном листе описываются дипломатические происки с целью обмануть трактатом, и объясняются цели, по которым трактаты были заключены, чтобы их не сдержать и нарушить, то никак не поможет при описании характера уверение, что это лицо верно соблюдало трактаты. Различных подобных несообразностей не избежал историограф. К общего рода замечаниям нужно прибавить и частное: в характеристике и описании дел Андрея Боголюбского и Даниила Романовича Галицкого нахожу не совсем изящное изложение и неясное понимание их великих подвигов. Но среди огромной массы разнообразных происшествий легко впасть в противоречия. Случается, что писатель забывает о том, что́ сказал, и не вполне предвидит то, о чем будет говорить. Охватить целое и везде быть господином его – немалое искусство. Наши историки, так разнообразные в рассказе и изложении и столь замечательные в этом отношении, в целости изложения и т. д.