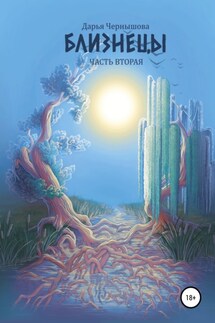Близнецы. Часть первая - страница 28
Тем летом, когда море впервые показывается ему, идет шторм. Небо давит на голову, как железная крышка, и Фирюлю кричат, чтобы отошел от берега подальше. Волна его не достанет, он знает точно. И никуда не уходит. Для Фирюля такое чувство в новинку – он, кажется, готов выпить всю эту воду залпом. Над волнами, как дым от пожара, клубятся тяжелые низкие тучи. По лицу хлещут брызги и жестокие порывы ветра. Впереди почти ничего не видно, и Фирюль прежде ощущает, чем понимает, что там, на море, кто-то есть.
К реву ветра и волн примешивается звук совсем иной природы – звук, какой может издавать раненый зверь, хватая последние судорожные вздохи. Фирюля дергают за рукав, но он остается на месте: разве не слышат они этот ужасный хрип, разве могут бежать, не заглянув в глаза неведомому существу? Мгла приходит в движение и рассеивается, прорезаемая устремленными вверх острыми гребнями. Из мутной воды, разрывая толстым брюхом песок, выползает на берег многорукое чудовище с огромной пастью, в которой торчат изогнутые клыки. Кожа его из дерева, кости местами белеют снаружи, а спинные наросты покрыты спутанной мокрой шерстью. Такими, верно, были гиганты, первые дети Матушки Земли. Может быть, это вышел на поверхность один из них, разбуженный визгливыми человечьими голосами.
Чудовище складывает по бокам длинные тощие лапы, как рыба прижимает к себе плавники, и отчего-то медлит, не схлопывает вокруг Фирюля зубастую пасть. Человек, который дергал его за рукав, вдруг падает навзничь, пронзенный прилетевшим с моря острым шипом. Солнце, огненный Первенец земли, на мгновение показывается из-за туч, подмигивает Матушке и одному из братьев – или, может, сестер. Фирюль встает перед чудовищем на колени, и оно решает его пощадить. Когда звериная пасть изрыгает на берег высоких смуглокожих людей, он уже не может ничему удивляться.
Его страх, вцепившийся пиявкой в сердце после потери треклятой баночки, насовсем уходит вместе с воспоминанием о подлинном страхе. Фирюль сидит на краю холодного камня, грызет сухари и глядит на воду. Грустное, уже не зимнее, но еще не весеннее небо совсем не красит морской пейзаж. Вороной тоже всем своим видом дает понять, что бесконечной соленой лужей не впечатлен. И все же Фирюль рад, что сюда приехал. Ему нравится верить, что вода во всех морях из одного источника, и сейчас, на этом берегу, он может снова частично пережить испытанное на том.
Но вороной прав: здесь не настолько красиво, а они и так уже задержались. У Фирюля, который перестал есть порошок, на теле с каждым днем все больше маленьких красных пятен, похожих на обычные синяки. Когда они вздуются, будет поздно, поэтому нужно поскорее домой.
– Только я еще рыбы купить хочу, – говорит он коню. – Ты как на это смотришь?
Вороной без особого воодушевления смотрит на это большим карим глазом из-под мохнатых ресниц. «Если бы лошади жрали мясо, – отчего-то думается Фирюлю, – до чего же жуткие были бы звери». Мысль о хищных конях всю дорогу не дает ему покоя. Он то сам над собой смеется, то засыпает под теплым боком вороного с опаской, поплотнее натягивая на уши капюшон.
Запад Берстони – красивый, лесистый край, со славными речушками и неглубокими озерцами. По большей части. Речушки порой норовят вымахать будь здоров, а в некоторых озерцах утонуть – раз плюнуть. Фирюль перебывал, наверное, на всех здешних берегах, но чаще всего, конечно, сидел у ручья, бегущего с юга чуть в стороне от Бронта. Тем любопытнее оказывается увидеть, что «чуть в стороне» превратилось теперь в «у самой стены», ручей разлился в неширокую реку, а сама стена окаменела и ощетинилась зубцами. Возвышенность на горизонте, которая раньше вообще не принадлежала Бронту, тоже оказывается взята в его кольцо, и там происходит какая-то строительная возня. Жизнь бурлит, кипит, переливается через край.