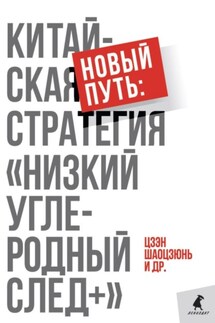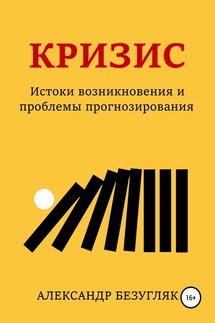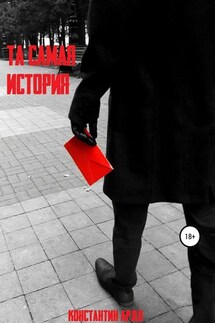Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами - страница 8
А может быть, экономисты просто не умеют правильно учитывать полный положительный эффект от технологий? Они игнорируют в экономической статистике те услуги или улучшения, которые пользователи получают бесплатно в рамках «пакета услуг», который обеспечивают современные экосистемы (такие как Яндекс, Сбербанк, Apple или Tencent) и гаджеты, в первую очередь смартфоны. Их consumer surplus, т. е. неучтенная полезность для потребителя, не учитывается должным образом в расчете ВВП и искажает данные о росте производительности труда, занижая «числитель» дроби производительности, т. е. общий размер «благ», производимых в обществе. Хорошим примером является исчезновение из мира производства изготовителей фотопленки или виниловых дисков, которые вносили определенный вклад в ВВП вплоть до 2010-х гг., а сейчас при кратном росте числа (электронных) фотографий и прослушиваний (цифровой) музыки нигде в общепринятых методологиях расчета ВВП продажи физических носителей фото или музыки не фигурируют.
Еще одно объяснение дает немного больше оснований для оптимизма, поскольку известно уже довольно давно и показало себя неоднократно: требуется время, чтобы начать использовать новые технологии эффективно. Искусственный интеллект – это пример того, что может повысить производительность во многих отраслях. Но оптимальное использование таких технологий требует времени и экспериментов. Такое постепенное накопление ноу-хау является инвестицией в «нематериальный капитал».
«Положительный эффект от ИТ отсрочен», – автор писал об этом уже почти два десятилетия тому назад[13]. Минимум на три-пять лет, считают и западные практики, такие как бывший генеральный директор Cisco Джон Чемберс и западные теоретики – в числе последних профессор Массачусетского технологического института Эрик Бринджолфссон. От нескольких месяцев до трех лет (для ERP-систем) – чуть более оптимистично полагают российские ИТ-директора. Характерно, что со временем растет число тех, кто верит в отсроченный эффект от ИТ. Связано это с тем, что учтенные расходы на цифровизацию – только верхушка айсберга. По мнению Бринджолфссона, 90% инвестиций приходятся на человеческий и организационный капитал. Из 20 млн долл. инвестиций в ERР-систему, как он считает, 1 млн долл. приходится на «железо», 3 млн долл. – на программные продукты, а оставшиеся 16 млн долл. – на перестройку процессов, консалтинг, обучение менеджеров (пропорция 1:5), которые совершенно невидимы в бюджете информационных технологий. Пока эти 16 млн долл. не освоены – а здесь без временного лага не обойтись, – никакого эффекта «железо» само по себе не даст. Именно поэтому казавшиеся бессмысленными траты на ИТ эпохи эйфории второй половины 1990-х гг. принесли плоды только в 2002–2003 гг.
Работы Эрика Бринджолфссона и Дэниела Рока из Массачусетского технологического института, а также Чеда Сайверсона из Чикагского университета объясняют феномен «J-образной кривой производительности»[14]. По мере внедрения новых технологий фирмы переориентируют ресурсы на инвестиции в нематериальные активы, особенно в выстраивание новых бизнес-процессов. Такое перераспределение ресурсов означает, что объем производства фирмы не растет пропорционально инвестициям, и это интерпретируется как снижение темпов роста производительности. Позже, когда инвестиции в нематериальные активы принесут свои плоды, производительность резко возрастет, поскольку и объем производства увеличится.