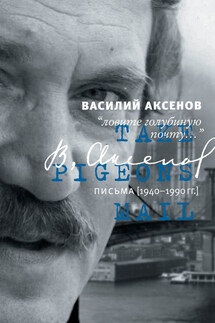Божественный глагол (Пушкин, Блок, Ахматова) - страница 27
. И затем весьма интригующая параллель находится ею и для Варфоломея:
«Лотман считает, что сумасшествие Мамонова было вроде гамлетовского (во всяком случае, вначале) или чаадаевского. В 1826 году Мамонов отказался присягать Николаю I. С ним обошлись как с душевнобольным, но держали как арестанта, Мамонов уехал в свою подмосковную, отрастил бороду, сделался человеком-невидимкой, подписывал бумаги не своим именем, запрещал упоминать при нем о государе, государыне и вел. князьях, избил лакея (все это делал и Павел “Домика”).
Кроме того, Павел приходил в исступление при виде (где он его брал в своей подмосковной?) высокого белокурого молодого человека с серыми глазами.
Весьма таинственный блондин!
Но здесь нельзя не вспомнить, что Пушкину была предсказана гибель от белокурого человека, а что Николай I был совсем белокурым и у него были серые глаза. (…) NB. (И опять, что Мамонов запрещал упоминать при нем о государе)»[102].
На основании этого можно заключить, что Варфоломей в какой-то степени (в каких-то эпизодах) ассоциировался у Ахматовой с Николаем I. Признаемся сразу, что этот вывод из чрезвычайно интересного ее наблюдения, связанного с «белокурым молодым человеком», представляется нам маловероятным. Во-первых, в 1828 году Пушкин не успел еще разочароваться в Николае I, о чем свидетельствует, например, стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю…»), переданное в феврале того года на высочайшую цензуру. А во-вторых, белокурые волосы и голубые глаза (голубой цвет глаз в общем-то мало отличается от серого – все зависит от освещения) были и у императора Александра I. И нам представляется, что, если уж и связывать Варфоломея каким-то образом с императорской особой, уместнее иметь здесь в виду именно Александра I, а не Николая I. К такому заключению приходим в результате рассмотрения плана неосуществленного пушкинского замысла 1821–1823 годов, о котором уже упоминалось.
Итак, приведем план «адской» повести («Влюбленный бес»), сохранившийся среди бумаг поэта:
«Москва в 1811 году. Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая – два приятеля к ним ходят. Один развратный; другой Влюбленный бес. Влюбленный бес любит меньшую и хочет погубить молодого человека. Он достает ему деньги, водит его повсюду. Настасья – вдова чертовка. Ночь. Извозчик. Молодой человек. Ссорится с ним – старшая дочь сходит с ума от любви к Влюбленному бесу» (VIII, 429).
Именно этот замысел был «обогащен» затем, по мнению Ахматовой, событиями личной жизни Пушкина 1828 года. При этом он претерпел существенные изменения. Вместо двух дочерей у старухи осталась одна (Вера), зато появилась как противопоставление ей «гр. И. (вамп)», а высший свет, тема которого не затронута в первоначальном плане, предстает в «Домике», по меткому выражению Ахматовой, «филиалом ада». Возьмем, например, следующие фрагменты титовского текста:
«Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины, и не скидали перчаток во весь вечер»[103].
«Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. “Смотрите, – сказал один графине, запыхавшись от гнева, – я не даром проигрываю несколько сот душ, а он…” – “Вы хотите сказать – несколько сот рублей”, – прервала она с важностью. “Да, да… я виноват… я ошибся”, – отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор и всю суматоху как рукой сняло»