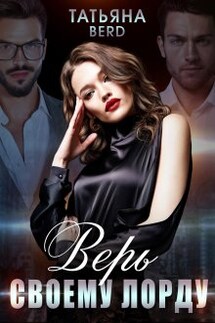Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия - страница 11
Трудно было представить себе людей, более разных, чем мои родители и родители моей жены. Антонина Кузьминична работала в костромском обкоме партии начальником административного отдела. Для тех, кто родился слишком поздно, чтобы понять, что это значит, поясняю: она была начальницей над всем, что имело касательство к управлению областью: здравоохранением, соцобеспечением, милицией, прокуратурой, судами и КГБ. Партийный контроль, согласно 6-й статье Конституции, лежал в основе системы, партийные организации пронизывали все общество, согласно многоярусной номенклатурной схеме; на самом верху находился ЦК КПСС, под ним – обкомы, затем – горкомы, райкомы и, наконец, первичные парткомы. На вершине номенклатурной пирамиды Костромской области сидела моя домашняя, уютная, хлебосольная теща. Ни одно важное назначение, ни одно административное решение не могло состояться без ее ведома.
Мой тесть Иван Сергеевич, добродушный, хозяйственный толстяк и выдающийся бильярдист, был директором местного ликеро-водочного завода. Как-то он поделился со мной секретной статистикой своего производства – получалось, что каждый взрослый мужчина потреблял около пол-литра водки в день, что в переводе на розничные цены составляло главную статью государственного дохода. Получалось, что продукция Ивана Сергеевича составляла основу экономики, бытовой культуры и семейного уклада жителей области.
– Если мой завод остановится хотя бы на неделю, произойдет народное восстание, и никакая милиция не сможет его усмирить, – посмеивался Иван Сергеевич, выразительно поглядывая в сторону Антонины Кузьминичны, как бы подчеркивая, что его работа гораздо важнее для поддержания порядка и стабильности, чем все ведомства, подчиненные его жене. Так или иначе, совместно мои тесть и тeща контролировали бо`льшую часть жизни области.
Благодаря Тане и поездкам в Кострому неведомая территория за пределами Москвы перестала быть для меня загадкой, а аморфная масса под названием «русский народ» приобрела очертания. Картина, которая предстала передо мной, была весьма унылой. Этот народ очень хорошо подходил для индивидуального, задушевного общения, вдали от политических тем – и то лишь когда принимал тебя за своего. Но стоило ему объединиться в социальную общность более трех, как индивидуальная задушевность исчезала, а ей на смену приходила непредсказуемая стихия, грозная разрушительная энергия, вызывавшая в памяти строчки Есенина, звучавшие как мороз по коже:
Однако, когда эта грозная общность соприкасалась с властью, происходила иная метаморфоза – стихия тут же сдувалась в забитую и запуганную массу, покорную субстанцию полицейского государства, которую так точно обозначил Пушкин в последней строчке «Бориса Годунова»: «народ безмолвствует».
В костромском порядке вещей не было и намека на московское брожение умов: были лишь безмолвный народ и власть, им управлявшая. Два раза в год, по праздникам, на здании заводского клуба, где находился бильярдный зал Ивана Сергеевича, вывешивали лозунг «СССР – оплот свободы и демократии» – квадратики белых букв по красному фону. Но только безумец в этом краю мог задумываться о свободе и демократии всерьез, тем более их обсуждать – как не обдумывают и не обсуждают правила уличного движения.