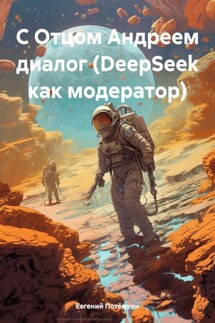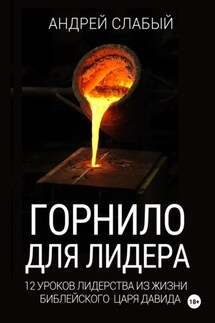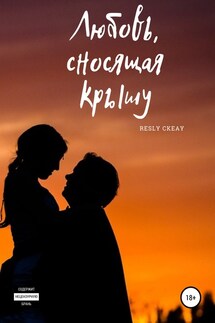Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви - страница 31
Но и это еще не все. Связав бытие Сына с самой Божественной сущностью, Афанасий пересмотрел и понятие сущности. Здесь особенно заметно, что его размежевание с космологическим мышлением Оригена и Иустина означало одновременно восприятие евхаристического богословия Игнатия и Иринея. Сказать, что Сын принадлежит Божественной сущности, – значит утверждать, что сущность, практически по определению, есть отношение. Существовал ли Бог когда-либо без Своего Сына?[129] Этот вопрос имеет исключительное онтологическое значение. Слово «когда-либо» в этом предложении употреблено, конечно, не во временном, а в логическом или онтологическом значении. Оно относится не ко времени в Боге, а к природе Его бытия, к Его бытию как бытию. Если бытие Бога по природе есть отношение и если оно может быть обозначено словом «сущность», не должны ли мы из этого почти с неизбежностью заключить, что, принимая во внимание первичность бытия Божьего для всей онтологии, сущность, постольку поскольку она означает высший характер бытия, может мыслиться только как общение?[130] В наши намерения не входит разобраться, означает ли эта мысль революцию в трактовке сущности античной традицией и есть ли в греческой онтологии для этого основания, которые могли выпасть из поля нашего внимания[131]. И все же из краткого обозрения учения св. Афанасия можно сделать вполне ясный вывод, что специалисты, применявшие для толкования святоотеческого тринитарного богословия различие между «первой» и «второй» сущностью[132], на самом деле ошибались. Как мы потом еще раз покажем в кратком обзоре каппадокийцев, такое различие не имеет смысла и создает серьезные проблемы при анализе соотношения сущность – лицо в рамках троичного богословия.
Важнейший вклад Афанасия в христианскую онтологию состоит в следующем. Воспользовавшись понятием общения, приобретшим онтологическое значение в рамках евхаристического подхода к бытию, он развил мысль о том, что общение принадлежит не уровню воли и действия, а самой сущности. Таким образом, оно утверждает себя как онтологическую категорию. Это был значительный прогресс на пути к онтологии, выстроенной на библейских предпосылках, решающий шаг в направлении христианизации эллинизма. Однако, не умаляя величия Афанасия, его значимости в истории богословия, мы обязаны признать, что он в своей онтологии оставил нерешенными целый ряд фундаментальных проблем. Одна из них касается онтологического статуса, который следует присвоить бытию, имеющему свой источник не в сущности, а в воле и действии, – иначе говоря, творению. Если бытие мира есть произведение не сущности Бога, а Его воли, то в чем заключается его онтологическое основание?
Если мы скажем, что это основание есть воля Божья, то не возобновляется ли тогда риск приписать воле Бога онтологические черты и тем самым практически обессмыслить различие, на которое указал Афанасий в полемике с арианством? Это сложнейший и в то же время фундаментальнейший вопрос: не предпочесть ли классический античный онтологический монизм как более разумную альтернативу христианской онтологии, основанной на онтологической инаковости Бога? Здесь возникает новая проблема: способна ли эта инаковость иметь онтологическое содержание и может ли онтология опираться на нечто большее, чем идея тотальности? Это до сих пор в значительной степени открытый вопрос