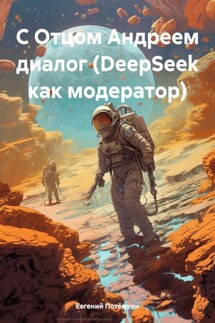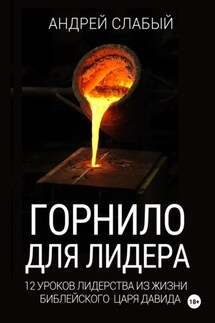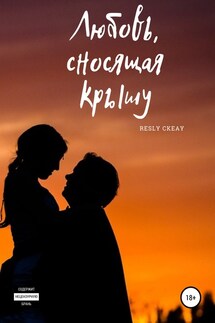Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви - страница 33
В чем состоит значение этого этапа становления новой онтологии, выстроенной каппадокийцами? Прежде всего, бытие Бога получило новое, приближенное к библейской традиции основание. Усвоив онтологический характер, присущий усии, понятие лицо/ипостасъ приобрело способность обозначать бытие Бога в его наивысшем смысле. Последующее развитие тринитарного богословия, особенно западного, у Августина и схоластов, приучает нас видеть именно в понятии «усия», а не «ипостась», высшее выражение и первопричину (αρχή) бытия Божия. В результате в учебниках по догматике учение о Троице помещается следом за главой о едином Боге (едином Сущем, усии), что влечет за собой все те трудности, с которыми мы до сих пор сталкиваемся, пытаясь приспособить Троицу к нашему учению о Боге. В противоположность этому позиция каппадокийцев, характерная для всего святоотеческого богословия, состояла, по наблюдению Карла Ранера[136], в том, что онтологически высший смысл применительно к бытию Бога должен быть усвоен не единой усии Бога, а Отцу, т. е. ипостаси, или лицу. Это отождествление высшего принципа бытия Бога с лицом, а не усией, не только соответствует библейскому откровению о Боге (= Отце в Библии), но еще и позволяет решить проблемы, присущие учению об «омоусион» и связанные, например, с отношением Сына к Отцу. Сделав Отца «основанием» бытия Бога, или его причиной, богословие восприняло некую форму подчиненности Сына Отцу без необходимости низводить Логос до уровня творения. Это оказалось возможно только потому, что инаковость Сына была укоренена в той же сущности. Поэтому всякий раз, когда поднимается вопрос об онтологических взаимоотношениях между Богом и миром, понятие ипостаси, приобретшей теперь высшее онтологическое содержание, должно быть подкреплено идеей сущности, если мы не хотим выпасть назад, в онтологический монизм. Отождествление Бога с Отцом рискует утратить свое библейское содержание, если наше учение о Боге не включает помимо трех лиц еще и единую сущность[137].
В ходе развития апофатического богословия платоновско-оригенистическое понимание истины вновь объявилось только для того, чтобы быть отвергнутым в своей сердцевине, т. е. в своих онтологических и эпистемологических претензиях. В то время как для Оригена высшей формой изъяснения истины было частое использование приставки αύτο-(«само», например αύτοαλήθεια, αύτο δικαιοσύνη и т. п.), апофатические богословы отдавали предпочтение префиксу ύπερ- («сверх», например ύπεραλήθεια, υπερούσια и т. п.). Это означает радикально переориентироваться в отношении истины и устранить ее античное основание. Древнегреческую мысль вполне удовлетворяло обозначение истины как «ауто», и более того – она никогда не стремилась за пределы «нус», который для греков всегда был привязан к истине как своему последнему онтологическому основанию[138].
Мысль апофатического богословия состояла в том, чтобы разгерметизировать замкнутую античную онтологию и выйти за ее пределы, так как мы не способны применять тварные понятия человеческого ума для адекватного выражения истины – Бога. Абсолютная инаковость бытия Божия, которая составляет сердцевину библейской онтологии, усиливается тем, что библейский подход к Богу оказывается в остром противоречии с классическим греческим[139]. Апофатизм отвергает греческий взгляд на истину, подчеркивая, что все наше знание о бытии, т. е. о творении, не может онтологически идентифицироваться с Богом. Бог обладает «простой и непознаваемой сущностью, недоступной для других вещей и совершенно неизъяснимой, ибо Он выше утверждений и отрицаний»