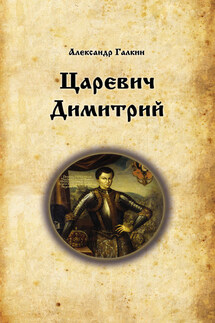Царевич Димитрий - страница 52
– Сейчас, батюшка, отец родной! Как не быть!
– А что у тебя за народ?
– Неведомо, родной, – постояльцы проезжие. На печи люди тихие.
– Тихих-то человеков ныне плетьми стегали, с печи гнали, Бог им прости! – жалобно заговорил, высовываясь с печки, старик Мартын.
– Кто ж тебя гнал, старина?
– По его указу, – он кивнул на знатного, – хлопцы евонные пороли. Должно, князь с Москвы изволит жаловать.
– Ты кто таков? – спросил вновь вошедший боярина.
– А тебе, холоп, какое дело? И как смеешь вопрошать? Да знаешь ли ты, пёс, что…
– Сам ты пёс, а яз атаман тутошний.
– Разбойники!.. Спаси, Пречистая!.. Господи!..
– Не пускай соплей! Не трону. Мы нынче к царевичу Дмитрею идти собравшись, рать ему готовим.
– К царевичу? В сих местах? Под Курском? Тако ли слышу?.. Да ведь он под Новоградом Северским стоит!..
Атаман промолчал и, снимая валенки, лишь взглянул недружелюбно.
– Не погневись, добрый человек, но скажу тебе по совести – на Москве всем ведомо, что не царевич он, а чернец Гришка Отрепьев, и приказано словить его и к царю доставить. По церквам же грамота о том читана. Не в перечу говорю тебе, а по доброму совету – вразумленья ради.
– Уж не ты ли ловить его едешь?
– Нет, атамане, мы едем по своим делам. А патриарх святейший анафемой его проклял и указал…
– Утрева погуторим, княже, – перебил атаман, – а теперь ужинать дадено. Садись, товарищи! На печи ещё одно место мне найдется, другие по лавкам лягут, а ты, боярин, и на земли не сплохуешь – шуба у тебя знатная.
Поужинавши, повстанцы расположились, как указал атаман, оставив одного сидеть на лавке с ружьём для караула. Боярин подумал, повздыхал, но пререкаться из-за места не стал и, закутавшись в шубу, растянулся на полу поближе к печке.
Утром все поднялись до свету. Атаман прочёл вслух молитву, которую все выслушали стоя и крестясь, затем, пожевав хлебушка, стали натягивать полушубки.
– Так едешь, боярин, царевича ловить? – спросил старшой.
– Не лепно мне с тобою речь вести, но едино скажу тебе, что скоро сему царевичу конец придёт.
– Тако, тако… Да несподручно тебе в таких одеяньях тяжёлых за царевичем гоняться! Мы тебя полегчаем малость: ты шубу-то с обутками оставь нам и хлопцам прикажи, чтоб кожухи свои отдали, а также и коней всех, – пешему тебе удобнее кого хошь ловить – во всяку щель пролезешь! Да и мошну с рублями на стол клади!
– Да что ты, друже! Помилуй! Ведь яз тебя не трогал, не похабил! За что ж безвинно?
– Не погневайся, княже, недосужно с тобой чесаться! Эй, соколы! Имайте коней боярских! Единого коня дарю сему монаху – старцу, что ночевал со мною: он тож к царевичу стремится, да по бедности пешком далече, мол.
– Атамане! Друже! Смилуйся. Пять коней! Како без них буду? Хоть двух оставь! Бога ради молю тя! Не губи душу! – И боярин упал на колени.
– Давай казну! – рявкнул атаман. – Да молись за меня, что жив остался! Уж скольки раз меня за мякоть товарищи ругали, и ныне чую – не миновать того, да уж таков я уродился: не терплю крови зряшней. Уйди с проходу, чего растянулся! – И забравши мошну, полную серебра, толкнув обезумевшего князя ногою, он удалился.
На рассвете в корчме сидел лишь боярин и его два холопа, с которых повстанцы, по выходе атамана, успели снять не только шубу, но и всю одежду, оставив одни исподние рубахи. В полной растерянности князь плакал, как ребёнок, а слуги потребовали у корчмаря водки и заливали горе сивухою.