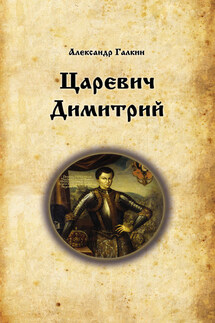Царевич Димитрий - страница 53
В одной из комнат большого кремлёвского дворца у стола, покрытого тёмной аксамитовой скатертью, сидели зимним вечером две грустные женщины; мать, в покойном заграничном кресле, и дочь – посреди подушек, на лавке, у стены. Первая не спеша пришивала бахрому к церковному покрывалу и, часто отрываясь, подносила к глазам платочек, поправляла свечку на столе, тяжело вздыхала, мельком взглядывала на дочку, негромко читавшую святую книгу. Приятный, низкий голосок девушки и неторопливость её чтения, немножко нараспев, с печальной ноткой, гармонировали с мягкостью и темными тонами окружающей обстановки. Желтоватый свет пятисвечника, поставленного в простенке, тонул в тёмно-красной глубине бухарских ковров, облегающих пол и стены, скрадывающих звуки, успокаивающих взор. По стенам изящно поблескивали, не нарушая спокойного вида комнаты, драгоценные украшения: золотая посуда и безделушки на резных полочках, иноземные шкатулы и русские ларцы приземистого стиля на подставах, кавказская сабля в серебряных ножнах, два птичьих чучела, заморские часы у задней стены и другие вещи – подарки дорогих друзей, памятки хороших дней. Большой киот в углу, с разноцветными лампадами, неярко мерцал в полутьме алмазами своих икон и золочёными кистями чёрных бархатных занавесок; три удобных польских кресла с пуховичками, окружая стол, звали к отдохновению, к пользованию ковровыми ножными скамеечками, стоящими возле них; красавица печка, с уступами и выемками в голубых узорах, манила теплотой и чудесной лежаночкой, накрытой пушистым мехом с шёлковыми подушками; множество таких же подушек, валиков, думок лежало в беспорядке по широким бархатным лавкам и табуретам во всей комнате, заполняя свободные уголки, сокращая пространство.
Каменный свод, расписанный херувимами, с золотыми звёздами по синему полю, покрывал горницу, но не давил на неё, а успокоительно ограждал хозяев от всего внешнего мира: сюда не доносилось никаких шумов и звуков, никаких криков людской жизни за дверями. Тишина, слабый аромат восточных курений, ласковость всего убранства создавали здесь мягкий художественный уют, располагали к задумчивости и уединению.
– Ты не слухаешь, мамо? – сказала чтица, заметив полную неподвижность матери.
– Нет, нет, дочка, всё слышу, вот токмо последнее… А знаешь что? Открой ты книгу наугад и прочти мне что откроется.
– На Евангелии грешно гадать, мамо!
– Ну, Бог простит, тягот моих ради. Прочти мне.
Дочь подумала, потом открыла и, не читая написанного, сказала наизусть:
– Приидите ко мне, вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы.
– Се про нас сказано! Про государя нашего! На него я и загадала. О всех страждет! А они… ненавидят! – Она взялась за платочек.
– Ну, полно! Смотри, тряпица-то совсем уж мокрая!
– И рада бы перестать, да сами льются! Токмо здесь и поплачешь, душу отведёшь!
– И никогда ты, матушка, не скажешь, почто слёзы льёшь. От слуг про беду ведаем, обидно то!
– Ох, девонька! Оттого и ревёт баба, что толком ничего сама не знает, а токмо сердцем чует. Я тож от челяди вести беру, сам-то ничего не скажет. Как взгляну на него, на лик сумрачный, на запавшие очи, так и зальюсь, и гонит он меня вон, ничего не сказавши.
– Последний раз говорили, что самозванец Гришка не возьмет Новограда, в снегах там стоит.
– То так. И уповаю, что отстоим град сей. Да на Москве опять неспокойно стало – измена, слышь, угнездилась в народе. То глад мужицкий терзал царя, теперь же вот – измена! И на бояр он не крепко надеется. И нет своих людей вкруг него: никому не верит, один за всех думает, душой томится! Всё то я вижу, чую, да сказать не умею. А может, неча и говорить! Слезою всё выходит!.. А ты опять, Оксинья?.. Не смей реветь! Утрись! И без того не знаю, куда деваться! Читай книгу!