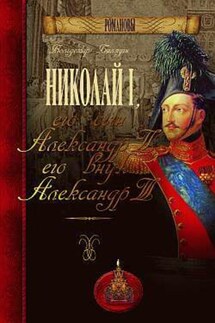Царский декамерон. От Николая I до Николая II - страница 6
Почти все представшие перед судом декабристы были военными людьми и потому и суд над ними осуществляли военные. Председателем суда, более напоминавшим военный трибунал, был Военный министр, и среди членов суда штатских почти не было. Одним из этих немногих штатских оказался Сперанский. Ему-то Николай и поручил написать манифест о событиях 14 декабря, и направил к нему на редакцию проект манифеста об учреждении суда над декабристами9. Своеобразие, и даже некоторая пикантность положения Сперанского в качестве члена суда, состояли в том, что его имя, наряду с именами графа Воронцова, А. П. Ермолова и адмирала Н. С. Мордвинова упоминалось в показаниях подсудимых в связи с намерением руководителей заговора сделать их членами Временного революционного правительства.
Улики на Сперанского были столь значительны, что члены Комиссии запросили Николая о разрешении арестовать Михаила Михайловича. Николай ответил: «Нет! Член Государственного совета! Это выйдет скандал! Да и против него нет достаточных улик».
А в это же самое время Николай в разговоре с Н. М. Карамзиным так объяснял сделанное им распоряжение о поручениях, данных им Сперанскому: «Около меня, царя русского, нет ни одного человека, который бы умел писать по-русски, то есть был бы в состоянии написать, например, Манифест. А Сперанского не сегодня, так завтра, может быть, придется отправить в Петропавловскую крепость».
Однако до крепости дело не дошло: Николай вскоре понял, что Сперанский искренне предан ему и сделал все возможное, чтобы сам император, фактический руководитель, следствия и суда, остался в благодетельной для него тени. Как бы то ни было, но участие Сперанского в суде над декабристами сблизило его с Николаем.
Размышляя над бессилием и несовершенством административной и судебной системы, над противоречивостью законов и путаницей в законодательстве, Николай, вступив на престол, назначил Сперанского управляющим Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, осуществлявшего кодификацию законов и составление «Полного собрания законов Российской империи» в 45 томах, и «Свода законов Российской империи» в 15 томах. Грандиозная работа была проделана небольшим коллективом кодификаторов в необычайно короткие сроки.
Свыше 30 тысяч наиболее важных законодательных актов России – от Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 года до актов 12 декабря 1825 года, – составивших «Полное собрание законов», были обработаны, систематизированы и опубликованы за три года! А еще через два года вышел в свет и пятнадцатитомный «Свод законов» – собрание действующих законодательных актов, расположенных в тематическом порядке, – незаменимое пособие для всех чиновников и судебных работников империи, до того имевших в своем распоряжении лишь отдельные законодательные акты. Помощниками Сперанского были профессора Царскосельского Лицея – Арсеньев, Куницын, Клоков и лучшие выпускники – Замятин, Илличевский, Корф – люди интеллигентные, трудолюбивые, доброжелательные по отношению друг к другу, горячо взявшиеся за дело. Особое место занимал среди них профессор права Михаил Андреевич Балугьянский – декан философско-юридического факультета Санкт-Петербургского Университета. Хотя Балугьянский был первым начальником Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а с назначением Сперанского он стал подчиняться Михаилу Михайловичу, это ничуть не повлияло на их отношения.