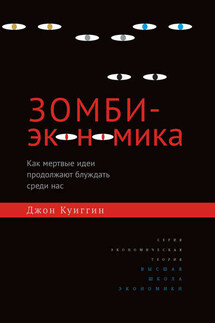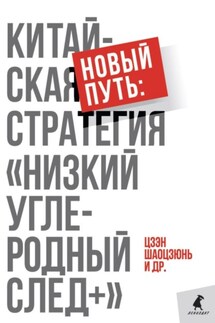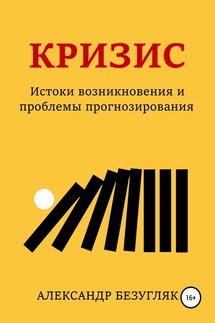Ценность всех вещей. Создание и изъятие в мировой экономике - страница 20
В этой главе будет рассмотрена эволюция теорий ценности примерно с середины XVII до середины XIX века. Мыслители XVII века сосредоточивались на способах расчета экономического роста в соответствии с запросами своего времени – ведением войн или повышением конкурентоспособности относительно какой-то другой страны (например, Англии по отношению к ее торговому и морскому сопернику – Голландии). Меркантилисты фокусировались на торговле и потребностях торговцев (на продаже товаров). Начиная с середины XVIII до конца XIX века экономисты рассматривали ценность как нечто возникающее из объема труда, затраченного в процессе производства, – сначала сельскохозяйственного труда (физиократы), а затем промышленного (классическая школа политической экономии). Поэтому, по их убеждению, данная ценность предопределяла цену продажи конечной продукции. Их теории ценности – теории создания богатства – были динамичными и отражали мир, пребывавший в состоянии трансформации, как экономической, так и общественно-политической. Эти экономисты концентрировались на объективных силах – воздействиях технологических изменений и разделения труда на способы организации производства и распределения. В дальнейшем, как мы увидим в следующей главе, на смену подобным представлениям пришла иная – неоклассическая – точка зрения, в рамках которой большее внимание уделялось субъективной природе «преференций» различных экономических субъектов, а не объективным производительным силам.
Меркантилисты: торговля и сокровища
С древних времен человечество делило свою экономическую деятельность на два типа: производительный и непроизводительный, благородный и низменный, усердный и праздный. Ключевым критерием данного разделения в общем случае выступало то, какой тип деятельности считался увеличивающим общее благо. В IV веке до н. э. Аристотель выделял ряд сравнительно благородных профессий в зависимости от принадлежности к тому или иному классу (граждан или рабов) населения древнегреческого полиса[37]. В Новом завете апостол Матфей приводил слова Иисуса о том, что «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное»[38]. В Средние века церковь поносила и даже осуждала ростовщиков и торговцев, которые «покупали задешево и продавали задорого»[39] – несмотря на то что они могли и не вести праздный образ жизни, их считали людьми непроизводительными и низменными.
До начала Нового времени определения того, какая работа была полезной и наоборот, никогда не были четкими. С началом колониальных захватов в XVI веке эти определения стали еще более размытыми. Завоевание колоний европейскими странами и защита торговых маршрутов с новоприобретенными землями обходились недешево. Государствам приходилось выискивать деньги на содержание армии, бюрократических аппаратов и приобретение экзотических товаров. Впрочем, казалось, что выход находится под рукой: в Америке были открыты громадные залежи золота и серебра, после чего в Европу хлынули несметные сокровища. Поскольку эти драгоценные металлы воплощали собой богатство и процветание, казалось, что всякий, кто приобретал их запасы и отчеканенные из них деньги, владел ими и контролировал их, тем самым участвовал в производительной деятельности.
Ученые и политики того времени, утверждавшие, что накопление драгоценных металлов представляет собой путь к могуществу и процветанию той или иной страны, назывались меркантилистами (от латинского слова