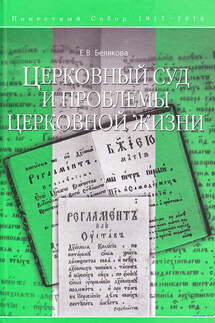Церковный суд и проблемы церковной жизни - страница 50
Кроме того, канонист считал необходимым создание судебных инстанций снизу доверху, начиная от суда в приходах и кончая Поместным Собором или его судебным отделением[296].
Таким образом, дискуссии о церковном суде поставили на повестку дня и вопрос о Поместном Соборе как о высшей судебной инстанции. Однако до реализации этих чаяний прошло несколько десятилетий. Тем временем в порядок церковного суда были внесены лишь небольшие изменения, отразившиеся в новой редакции Устава духовных консисторий (1883).
Отказ от коренной реформы церковного судопроизводства не означал исчезновения проблем, побудивших к разработке этой реформы. Консисторский суд оставался малоудовлетворительным, и те «рассудительные люди», которые не считали «сдавленность, в которой наше духовенство утрачивает свои человеческие достоинства», наилучшей формой, «навсегда необходимой для нашей Церкви»[297], по-прежнему писали о необходимости реформы:
Судебная реформа помогла бы духовенству очистить свою среду от тех людей, которые своим поведением не только роняют все духовное звание, но даже унижают имя человека, и, несмотря на все это, терпимы в духовенстве к соблазну всех прихожан, стремящихся бежать от таких пастырей в какое-нибудь разноверие[298].
Печать начала XX века о церковном суде
Недовольство состоянием консисторского суда со стороны общества в целом, а духовенства в особенности ярко проявилось после преобразований 1905 г. в связи с ослаблением цензуры. В прессе вспомнили полемику 1870-х гг. о проекте духовного суда и отмечали, что отказ от реформы пагубно повлиял на ситуацию в Церкви:
Можно пожалеть, что светлые мысли о реформе консисторий, высказанные 30 лет тому назад не получили до сих пор осуществления[299].
Вместе с тем, в духе времени высказывались предложения ввести суд чести для духовенства, в ведение которого предлагалось передать «отметку поведения причтов в клировых ведомостях и представление к наградам», а также «право заступничества, права защищать невинных перед консисторским и владычним судом». Автор одного из таких проектов считал, что введение суда чести повысит нравственное состояние духовенства,
ободрит его в пастырском труде, повысит строгость и требовательность не только к другим, но и к себе. Личная честь и достоинство будут цениться как общая всем дорогая, а не безразличная ценность; реже будет слышаться равнодушное: «моя хата с краю». Суд чести, несомненно, значительно облегчит работу епархиального начальства по разбору кляузных дел в духовенстве не только потому, что возьмет часть работы на себя, но и потому, что несомненно уменьшит число таких дел[300].
Не прекращаются жалобы на власть епископов, которые
усердно наказывали всех, кто преступал их «архиерейские» законы, нисколько не задумываясь над тем, что эти законы удобоисполнимы только в архиерейских палатах[301].
Многие авторы считали, что архиерей фактически является «единственным судебным органом»[302], поскольку может
несмотря ни на какие следствия, решить дело по своему желанию, при чем по первому впечатлению или предвзятой мысли может решения свои отменять и опять постановлять сколько угодно раз, чего нет ни в одном из других судов, даже военных