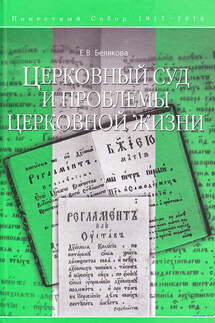Церковный суд и проблемы церковной жизни - страница 51
Страх перед консисторским судом удерживал людей от принятия сана:
Боязнь рясы ‹…› вызвана крайне несовершенной постановкой церковного суда. ‹…› Клевете, анонимному доносу, чувству личной мстительности здесь дано столько свободы и придается столько значения, что иногда поистине «страшно впасть в руки этих судей». Тот, кому часто приходилось иметь дело с консисторскими и иными вершителями судеб рядового духовенства, не раз слыхал такую фразу: что ж делать, может он и не так виноват, но раз преосвященный представляет, надо исполнить и т. д. Далее обычно идет разговор о необходимости поддержать авторитет епископской власти[304].
Другой автор видел в недостатках суда одну из причин бегства из духовного сословия:
Когда испытываешь на собственной шкуре, когда принужден часто без всякой вины, бросая приход с налаженными уже отношениями и устроенное хозяйство, тащиться на другой конец епархии с кучей ребятишек, с беременной женой, – о, как хочется тогда сбросить рясу и навсегда развязаться с деспотами, сидящими в консистории и рядом! Насколько незащищена личность священника, видно из одного нам известного случая, когда в одной западной епархии архиепископ перевел с места на место священника – кандидата академии только по наговору какого-то светского чиновника вроде вице-губернатора. При объяснении с батюшкой владыка объяснил, что он ничего не мог сделать, – при мягкости же характера у него не хватило сил отказать в просьбе тому господину. Он не досказал, что не хватило у него также догадки предварительно наказания выслушать обвиняемого[305].
Отмечалось также, что «духовное» наказание нередко назначается за мелкие служебные проступки:
Какая-нибудь неисправность в ведении метрических книг, несоблюдение известной формальности при заключении брака, и священник может быть посажен в монастырь. ‹…› На служителей алтаря возлагается множество обязанностей, совершенно для них посторонних, вроде представления списков лиц, подлежащих призыву в воинское присутствие или различных статистических данных. И вот ошибка в подобных сведениях, доставление которых совсем не дело священников, может повлечь за собой унизительное наказание. ‹…› Наказания, которым подвергаются все граждане, налагаются на них не иначе, как по суду, притом суду гласному. Консисторский же суд происходит келейно. При отсутствии основных гарантий справедливости: наличности обвиняемого, прений сторон и т. д.[306]
Значительно реже в церковной прессе этого периода встречаются конструктивные предложения по преобразованию суда. Из них можно отметить мысль о. Александра Рождественского о сохранении в судебном процессе за архиереем только права прокурорского надзора:
Тогда суд приобретет самостоятельность в своих действиях и будет постановлять приговоры только по требованию закона и справедливости. Вместе с тем, и епископ освободится от нареканий в несправедливости, что случается нередко в настоящее время при утверждении епископом судебных определений консистории[307].
По мнению Рождественского, такое изменение не противоречило бы канонам, как и введение гласности и защиты:
Древний, канонический тип судопроизводства был состязательно-обвинительный, то есть такой же, какой существует в современном светском процессе. И, следовательно, следственный тип процесса, господствующий в духовном судопроизводстве, не только не современен, но и противоканоничен