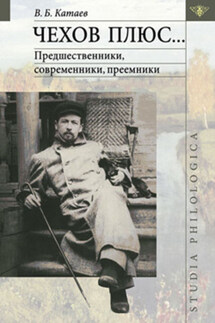Чехов плюс… - страница 16
В «Дуэли» на протяжении почти всей повести присутствует точка зрения Лаевского, особенно преобладая в сценах накануне дуэли, когда герой «с отвращением читает жизнь свою». Точка зрения фон Корена возникает лишь в заключительной главе повести, когда уже опровергнуто то, что этому герою казалось универсальной и абсолютной истиной. Не унизив этого героя, до конца отдавая должное его высоким качествам, автор приводит его к грустному признанию: «никто не знает настоящей правды». Еще раньше ту же фразу произнес его бывший антагонист Лаевский.
Право голоса, предоставленное Чеховым преследуемому (в пределах той ситуации, которую первым разрабатывал Лермонтов), позволяет, не прощая его, а понимая, не принять неумолимости его преследователя.[78]
Дело не просто в некоем нерассуждающем гуманизме, который распространяется писателем на всякого среднего человека. Вывод, к которому Чехов приводит своих героев-дуэлянтов: «никто не знает настоящей правды», – был его собственным продуманным убеждением, особенно укрепившимся после Сахалина. Там он воочию убедился, каков может быть результат «гордой мечты сделаться исправителем людских пороков». И это убеждение стало одной из основ чеховской литературной позиции, его ответом своим великим предшественникам по русской литературе.
И усвоение, и отрицание – таков характер литературного диалога Чехова с Лермонтовым. И кто знает – не было ли это тем, намеченным самим Лермонтовым «последующим развитием» нашей литературы, о котором сто с лишним лет назад писал Розанов?
Гоголевский год
Сколько раз Чехов перечитывал Гоголя, сказать трудно. Ясно, что гимназистом, ясно, что накануне создания «Степи» (в которой Чехов, по его словам, вторгся во владения «степного царя» Гоголя – П 2, 190) и «Иванова» (Иванов, писал Чехов критику, показан «готовым», как сложившийся характер, так же, как готовым взят и Хлестаков у Гоголя – И 3, 147).
Читая 7-й том писем Чехова – это 1897–1898 годы, – можно обратить внимание на то, что в этот период количество цитат из Гоголя, скрытых и явных, в письмах Чехова сильно увеличивается. Тут и «Коляска», и «Женитьба», и «Ревизор», и Коробочка, и Петух, и Елизавет Воробей, и Неуважай-Корыто. И даже – в шутливом отчете о пребывании в Ницце – словечко из лексикона Ноздрева: здесь «женщины – суперфлю» (И 7, 158)… Можно предположить, что как раз перед этим, где-то в первой четверти 1897 года, Чехов еще раз перечитывал Гоголя.
И это обращение к Гоголю не прошло бесследно для творчества Чехова следующего, 1898 года – для таких произведений, как «маленькая трилогия» и «Душечка».
Дело тут не в пресловутых литературных влияниях, не в заимствованиях. Чехов – один из самых независимых, самобытных художников. Но для всякого большого писателя наряду с действительностью биографической, в которой он живет, существует действительность литературы, прошлой и современной ему, с которой его произведения не могут не перекликаться. И маленькая трилогия Чехова – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» – многими корнями уходит в литературную почву, в произведения предшественников и современников Чехова – Гоголя, Тургенева, Толстого, Щедрина.
Но более всего – в гоголевскую почву.
Первый рассказ трилогии, «Человек в футляре», был написан стремительно. В записных книжках сделана одна запись к этому рассказу: не сюжет, а формула-заглавие и некоторое ее разъяснение. «Человек в футляре» писался максимум две недели: начат в мае и завершен в начале июня 1898 года. После восьми месяцев, проведенных во Франции, в возбуждении от дела Дрейфуса, Чехов вернулся на родину, и результатом этого нового возмужания, и гражданского, и художнического, стал «Человек в футляре».