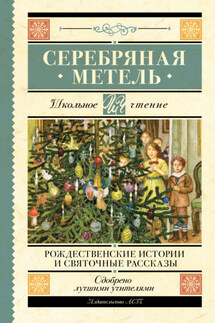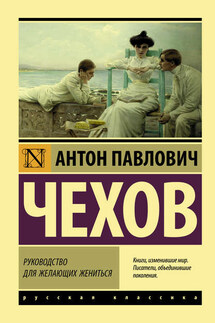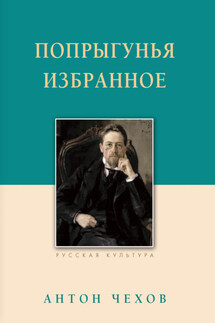Человек в футляре - страница 16
Для Чехова же существует лишь проблема и философия жизни, об ином он говорить отказывается. «Для Толстого и Достоевского смерть, Бог – не граница. Сплошь и рядом отсюда они только начинают. Чехов здесь кончает. Подводя к некоему пределу, он предоставляет сознание читателя собственному (мистическому) опыту»[11], – замечает А. П. Чудаков.
Думается, что Чехов кончает все-таки не потому, что надеется на мистический опыт читателя. Если его герой и заглядывает «за грань» («Скучная история»), он видит там не загадку, не тайну, а тот же обычный и привычный мир, но мир без него. Оправданным кажется объяснение того, почему Чехов кончает раньше Достоевского и Толстого, данное С. П. Залыгиным: «А иные явления наш писатель из области таинственного перевел в область очевидного. Самое потустороннее – смерть – отнес не к ней самой, а к жизни. Событие жизни, больше ничего… Тем более что ничего за ним уже не следует… Люди при виде смерти теряют у него обычную наблюдательность – она нужна для жизни. Для смерти она ни к чему»[12].
В записных книжках Чехова об этом сказано предельно лаконично: «Ни одна наша смертная мерка не годится для суждения о небытии, о том, что не есть человек» (17, 101).
С Толстым на этой почве Чехов однажды вступил в прямой спор, причем в тот момент, когда он был намного ближе к своему концу, чем его старший современник.
Дневниковая запись Чехова: «С 25 марта по 10 апреля (1897 г. – И. С.) лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии» (17, 225).
Содержание разговора подробно передано в чеховском письме: «В клинике у меня был Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю» (М. О. Меньшикову, 16 апреля 1897 г.; П 6, 332).
Чуть позднее, 23 июля 1897 года, А. С. Суворин фиксирует в дневнике сходную чеховскую мысль: «Смерть – жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать»[13].
Чехов относится к проблеме смерти скорее не как философ, а как обычный человек. Он не бежит от горького знания, но отодвигает его, вполне согласно духу русской пословицы: «Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего».
Спор с Толстым словно продлен и развернут в чисто чеховскую плоскость: страшно не просто стать ничем, но и то, что после этого станут, как обычно, спокойно пить чай и говорить лицемерные речи.