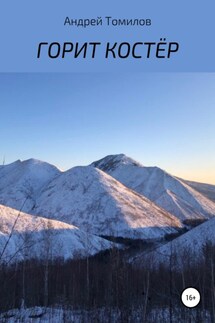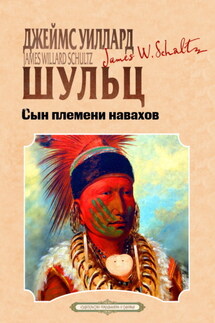Черная пантера - страница 27
И, может быть, она не расширяется: она зевает.
Скучно, скучно на свете! И видит эта бледная голубоватая луна влюбленные, мечтательные пары, которые клянутся в верности только затем, чтобы изменить. И видит она грешных, измученных грехом своим людей, которые клянутся – когда богами, когда разумом – исправиться и все же не делаются лучше. Видит она борьбу художников с природой, старанья их понять ее и объяснить ее, а все же они не могут искренно сказать, что им известно хотя бы что-нибудь в природе. Наука временами говорит: буду все знать. А временами сомневается, бледнеет перед этими неосторожными словами и говорит, потупив голову, стараясь не терять перед непосвященными величественного своего вида: «Для знанья предел есть».
Толпы нищих, голодных, больных, безработных… В давнишние, давно исчезнувшие времена они мечтали найти пищу и человеческую жизнь – за гробом. Теперь они мечтают о супе и о человеческих условиях для жизни – на земле. Луна смеется бледным смехом, и она чувствует, что солнце, невидимое для нее, смеется тоже. Это смех двух лукаво прищуривших взгляд свой, прекрасно знающих цену всему и издевающихся над всем авгуров. И долетают тоже часто к темнеющему ночному небу слова, надменно говорящие о царственной свободе. Свобода… только нет свободных. Спит земля, колыхая своей величественной грудью, которая уже так стара, стара, – и молода, словно в шестнадцать лет.
– Пусть ложь, пусть ложь, – бормочет сонная земля, потягиваясь в дремлющем эфире.
– Может быть, все, все – ложь, весь мир – обман! Мне помнится, об этом говорили что-то индусские теологи… А все же я живу, произвожу, творю, – и все же буду жить, производить, творить… И населяющие тело мое люди тоже живут, страдают, наслаждаются, надеются и борются за лучшее. Это я им даю все могучие силы, чтобы бороться и верить. В вере – жизнь.
В мансарде
– Можно войти к тебе, Люси?
Мать отрывает на мгновение от колыбели мертвого ребенка свой затуманившийся тусклый взгляд.
– Нет. Я прощаюсь с моей девочкой.
– Но мы могли бы помочь тебе одеть ее.
– Благодарю вас. Я сама ее одену. Для меня это будет большим удовольствием. Кроме того, наряд моей малютки так несложен и прост. Ведь ее мать такая бедная, она не может подарить ей на прощание ни одного цветка, ни одной белой шелковой ленты…
– Не возмущайся так против судьбы, не убивай… Ну, вот и мы бедны, – не могут же все люди быть богатыми.
– Да, да, я знаю! – И в голосе Люси звучат сухие, острые, как иглы, ноты злобы.
– Я знаю, что у богатых дети бывают часто изуродованы золотухой, так как им слишком много дают сладкого. А у меня не было мяса для моей девочки, чтобы подкреплять ее, когда она была больная. Теперь же уходите, мои милые, я хочу быть одна, совершенно одна с моей девочкой.
Люси прислушиваеется к тяжелому, спускающемуся по лестнице стуку грубых сабо и снова наклоняется к ребенку.
– Ты думала, Жантон, что ты одна уйдешь из этой комнаты, а твоя мать останется тут мучиться? Как бы не так! Мы уйдем вместе, милая Жантон. Ты знаешь: у меня есть немного денег, чтобы купить тебе гроб. Для моего же гроба денег нет. Пусть тот, кто хочет купить его мне, – покупает! А теперь поцелуй, крепко, крепко… Вот так, Жантон.
Она отвертывается от колыбельки и с тупым равнодушием смотрит на дверь.
– Я не уйду отсюда – меня отсюда унесут.
Куда идти? Вернуться снова к своему жалкому, еле оплачиваемому ремеслу поденщицы? Переносить опять нужду и голод, пренебрежение? Унижаться? Я все это переносила, когда была жива Жантон. За свой собственный счет – не хочу. Как у меня убого тут, темно. А сколько золота, сверкающего золота льет жизнерадостное солнце с неба… Все для богатых! Все, все для них! Только для них одних – богатство, и вся чарующая прелесть жизни, вся красота природы и любви, и много, так необъятно много счастья… Мне стоит только посмотреть в окно, и я увижу весь этот шумный и пожирающий без сострадания и наслаждающийся муравейник жизни… О, проклятый, проклятый Париж!