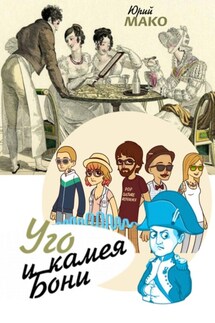Черный меч царя Кощея - страница 30
А громадная птица, устало махая крыльями, с возмущённым клёкотом требовала ещё.
– И чё делать-то, Никита Иванович? Энтот гусь кривоклювый на ногу мою целится!
– Брось ему чего-нибудь.
– Короб пустой остался, бросать? – Митя, не дожидаясь моего ответа, запустил берестяной коробкой в голову орла.
Тот вовремя успел повернуть направо, увернувшись от удара. В другой раз ему уже не так повезло, потому что наш младший сотрудник, вырвав у меня второй короб, с размаху залепил орлу поперёк клюва!
– Ага, не нравится?! Не видать тебе, твари поднебесной, длиннокрылой, почём зря кусачей, тела моего белого, богатырского!
Орёл вновь издал требовательный клёкот, и меня осенило. Я протянул младшему сотруднику корзинку:
– Держи, кидай, пусть жрёт, зараза!
– Дык энто ж вроде как гостинец Бабуленьке-ягуленьке от дочки ейной старшенькой…
– Митя, не надо дебатов. Кидай, и всё!
– А ежели Яга осерчает, так на кого вы стрелки переведёте?
– На тебя, естественно, – начал было я, но тут орёл повернул голову и так клацнул клювом у самого Митиного лаптя, что тот больше не раздумывал.
– Подавись ты, ирод ненасытный! Чтоб тебе лопнуть в небесах, чтоб у тебя в полёте живот пучило, чтоб ты под ёлкой сел, а тебя ворона сверху по башке обгадила! Чтоб… чтоб… Ну, Никита Иванович, подскажите же и от себя какое ни есть подходящее проклятье, а?
– Митя, мы снижаемся.
– Чего? Куды?! Не сметь! Я те снизюсь, – рявкнул он и с великого перепугу дёрнул орла за перья, словно бы натягивая удила.
– Упс… – И в Митиных пальцах остались два здоровущих пера. – Сами выдернулись как-то… А я больше не буду-у!
Я бы на месте пилота, бесплатно доставляющего нас по указанному маршруту, не слабо обиделся и посадил самолёт. Орёл был благороднее, он поступил иначе – задрал нос и резко пошёл вверх. Мы с Митей, не успев сказать друг другу последнее «прости», скользнули по спине птицы вниз. Потом был короткий крик, падение на жёсткие перья хвоста, тяжёлый удар тем же хвостом, словно плёсом кита, и…
В себя мы пришли, сидя у бабкиного колодца, плечом к плечу, мокрые, как котята, но, кажется, живые и даже целые. Ну, почти целые. Митя продемонстрировал мне правую ногу без лаптя и портянки. Я быстро пересчитал – все пять пальцев на месте. Во дворе отделения была тишина, никого не видно, никто нас не встречает.
– Бабуля! Еремеев! Есть кто-нибудь?!
Бесполезно. Родное отделение милиции словно вымерло. Мы переглянулись и кинулись в разные стороны: я в дом, а мой напарник в баню. Дверь была заколочена крест-накрест двумя свежестругаными досками. Я попытался отодрать их, но прибили надёжно. Да что же у нас тут опять творится-то?! Ни на минуту их оставить нельзя…
– Никита Иванович, гляньте-ка начальственным взглядом, – тихо подошёл ко мне Митя, протягивая лист гербовой бумаги. – Я ворота распахнул, а тама… вот! Прибито!
– «Царский указ», – быстро вслух начал читать я. – «По совету Боярской Думы и собственному их решению, в заботе о городе моём, землях и всех честных людях, повелеваю! Милицию лукошкинскую распустить!»
– Что?!! – взвыл Митя.
Я схватился за сердце, с трудом овладел языком и продолжил:
– «Понеже сыскной воевода и помощник его беспутный Митька Лобов в колодце утопли, за их смерть Бабе-яге ответ держать! Сотню стрелецкую еремеевскую в войска возвернуть. Пущай на поле брани свою храбрость доказывают. А коли у кого какие жалобы на милицию имеются да на проступки их лиходейские, тому к дьяку Филимону Груздеву идти надобно. Челом бить, справедливости требовать, на подарки не скупиться. Всё божьей волей и содеется, понеже всех люблю, целую, обнимаю и в беде не брошу. Вы мне – дети, я вам – отец! Добрый, но строгий и справедливый! Всегда ваш, Горох». Что за хрень?