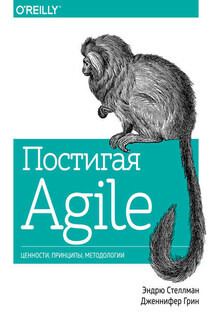Де? Реформация! - страница 2
«Хайп», «хэйт», «шейминг», «стриминг», «лук», «кринж», «клиринг», «процессинг» и прочая-прочая. Эти слова-«занозы» для русскоязычного общения в уже эпоху «черного» (мусорного) информационного интернетного шума подобны ядовитым бронзовым перьям мифических птиц-стимфалид, которые «роняли их как стрелы, и поражали ими всех, кто находился на открытой местности». И это не неологизмы, а сознательно рекламируемые всеми доступными пропагандистскими методами филологические антигены-клинья препятствующие формированию общественного самосознания естественным образом, откровенно взрывающие связь поколений. Этими словами формируется арматура для социальных клеток-кластеров.
Вот почему употребление моей дочкой в простом общении слова «триггерить» в качестве синонима русского «переживать» переполнило мою личную чашу филологического терпения. Если диалектически, соединив прошлое и настоящее продолжить получившуюся прямую в будущее, то человек, который «триггерит» по поводу или без, через некоторое время перестанет различать значение понятий «переживать», «сопереживать», «сочувствовать», «волноваться», потому что словесное переформатирование не сможет не затронуть переформатирования сознания.
Не спроста вдруг «ответственные руководящие сотрудники государственных учреждений» росчерком пера превращаются в «по умолчанию» «эффективных топ-менеджеров» государственных же, но уже не учреждений, а «корпораций».
И вообще, – насильное синонимирование иностранных переводных слов в государственном языке титульной нации, особенно сверху, носит оттенок дурной третьесортной пародии, извращая уже сложившиеся устои общественного самосознания.
Не хочу осуществлять сложнейшие синтаксические, филологические и психологические изыски и заниматься литературной критикой. Просто припадем к истокам. Приведу цитату из романа в стихах «Евгения Онегина» А.С Пушкина.
«Уж не пародия ли он?…XXIV Глава седьмая.
Так думает влюбленная, обратим внимание: «русская душою», Татьяна Ларина о герое своего в общем-то трагического романа после тщательнейшего, многодневного, скрупулезного, скорее всего придирчивого и наверняка пристрастного анализа им сказанного, сделанного, изученного украдкой на усадьбе его образа жизни, привычек, выбора литературы, пометок на полях и строках прочитанного. (И если кто-то скажет, что это написано только для увеличения А. С. Пушкиным постраничного гонорара, то я лично приму это за оскорбление. Потому что, препарируя с микроскопической точностью срез российской действительности где-то конца XVIII начала XIX века, он просто не мог тратить свое гениальное перо на описание банальной дуэлишки распетушившихся дворянчиков освобожденных от государевой службы жалованной грамотой Екатерины II в 1785 году).
А дальше у Пушкина вообще «бомба»!
«Ужели слово найдено?…«XXV Глава седьмая.
«Слово», которое в тексте неспроста выделено курсивом. «Слово», которое у Пушкина отнюдь не «серебро». «Слово», которое в Евангелии от Иоанна появилось «в начале», у Пушкина не просто так произнесено и для читателя, и для Татьяны уже за «середину» романа.
«Слово», которое буквально насильно заставляет вернуться «в начало», посмотреть на всё произошедшее по-новому и тем более настораживает на будущие события.
Вернемся: «Татьяна русская душою» (Глава5, стих IV).
Простым сочетанием трех слов в односложном предложении гений Пушкина прилагательное «русский» субстантивирует, возвышает до значения имени существительного. А если этот «взрыв» субстантивации сопоставить с тем, что в характеристике своего героя, одноименного заглавию, слово «русский» употребляется лишь один раз, да и то только в качестве прилагательного простого словосочетания: «русская хандра» (Глава1, стих XXXVIII) при описании его непонятного душевного «недуга» с иностранными корнями. Так исподволь, ненароком, но изначально четко и ясно Пушкин показывает теперь бросающуюся в глаза разницу форматов, жизненных устоев в общем-то типичных представителей поместного дворянства.
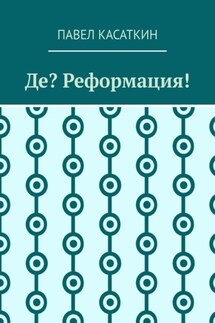

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)