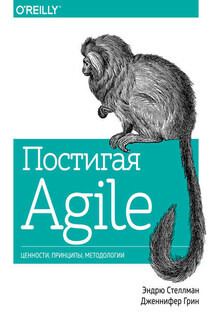Де? Реформация! - страница 3
Причем, раскрывая особенности жизненного уклада семейства Лариных, Пушкин явно неспроста начинает со славословия почти «божественного» уровня простой «русской» же «привычке»: «Привычка свыше нам дана, Замена счастию она…«Глава 2, стих XXVIII. Хотя при более близком знакомстве как-то, мягко говоря, слишком иронично, или даже с ехидцей, этот формат низводится ниже линии морального позитива. Ведь мама героини «Служанок била, осердясь, -…» (Глава 2, стих XXXII), между обыденными делами «Вела расходы, брила лбы». (А если знать подоплеку:– без застенчиво «зарабатывала» деньги на лично постригаемых внеплановых рекрутах. Уместно здесь упомянуть и то, что знаменитый хор девушек в одноименной опере П. И. Чайковского радостно и оптимистично исполняет свою песню в саду у Лариных, оказывается не от полноты чувств, а по «наказу»: «Чтоб барской ягоды тайком Уста лукавые не ели…»).
Однако, семейка Онегиных на этом фоне у Пушкина уже в самом начале романа походя, не задумываясь совершает уже, можно сказать, абсолютно негодяйский поступок, «Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора,.. Monsieur прогнали со двора.» (Глава 1, стих IV). Именно того «Monsieur I*Abbe, француза убогого», который «Жалея бедное дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил И в Летний сад гулять водил» (Глава 1, стих III) (Кстати, именно это строки Валерка Мещеряков, по сценарию бывший гимназист, из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна с якобы ностальгией цитирует наизусть «белому» врангелевскому офицеру Джигарханяна, чтобы «втереться в доверие». )
А если это действие сопоставить с найденным Татьяной «словом», то разница жизненных форматов «бьет в глаза». Потому что к финалу мы уже знаем, что первой, и получается, единственной и верной наперсницей любви Татьяны была не мама, и даже не сестра, а именно няня – «Филлипьевна седая». Именно известие о её кончине и послужило невольной причиной финальной сцены.
Только растроганная письмом с этой печальной новостью о своей «бедной няне», с высоты своей «русской души» презирая все привнесенные извне форматы светских формальностей, Татьяна удостаивает Онегина откровенной беседой после своего невероятного светского взлета в замужестве, «слезами заклинаний», вымоленного матерью. Причём, не скрывая своих чувств, холодно замечает этому теперь назойливому, слезливому и тщеславному «страстотерпцу»: «Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?» (Глава 8, стих XLV)
И если отвлечься от событийной канвы романа, то после «слова» становится очевидным, что если в начале эмоциональным «всплеском», оставляющим какой-то мутный осадок после прочтения, явлен именно поступок с Monsieur I*Abbe, то причиной финальной развязки послужило известие о похоронах старой няни.
Круг замкнулся.
И в том и другом случае раскрываются взаимоотношения с людьми вне зависимости не только от общественного положения, но и от национальности, от имущественного, сословного и прочих статусов. Только в первом случае, у Онегиных привнесенные извне, со знаком «минус», а во втором, у Лариных, где «Татьяна русская душою», со знаком «плюс».
Простыми, яркими мазками Пушкин четко и красиво прорисовывает непреодолимую пропасть жизненных форматов, отношения к людям, собственному народу, общности, единения с ним.
Фатальный характер непреодолимости этой пропасти и проиллюстрирован также просто и ярко. «Полурусский», по мнению соседей, Ленский уничтожен, распят посередине, убит в романе дважды, – сначала во сне Татьяны, а затем наяву на дуэли. «Он сердцем милый был невежда» (Глава 2) и по большому счету, с одной стороны предал простую, понятную и «привычную» обычному человеку любовь к жизни, а на самом деле оставил Ольгу в одиночестве. А с другой стороны, спровоцировав дуэль, погиб, в реальности не представляя степень изощренности и коварства тщеславия, – жизненного формата, противного простым, истинным человеческим чувствам.
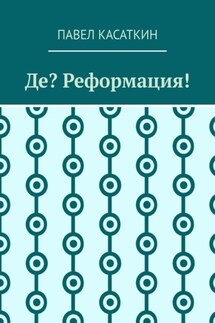

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)