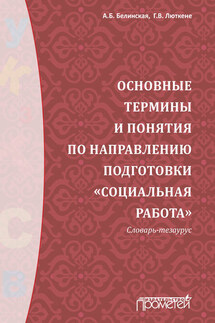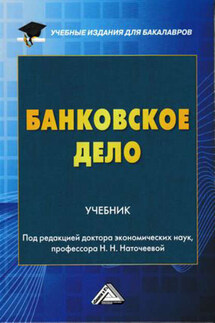Деонтология социальной работы - страница 7
Кантовский долг формален: он на максиму воли налагает форму закона. Но эта форма не является совершенно пустой, она содержательна: испытание максимы с точки зрения ее способности быть всеобщим и общезначимым требованием означает необходимость чтить разумное существо как разумное, т. е. чтить человечность (которая на языке Канта является синонимом разумности) в каждом индивидуальном воплощении.
Категорический императив (высший принцип нравственности) вменяет в долг отношение к человечеству в лице каждого индивида как к цели и никогда не как к средству. Хотя долг полностью замкнут на нравственный закон, он не является внешней принудительной инстанцией, с чем связана еще одна формулировка категорического императива, рассматривающая нравственный закон как автономию воли.
Долг есть моральный закон, явленный как человеческий мотив. Каким образом закон сам по себе может стать непосредственным, определяющим основанием воли, мотивом – это, по мысли Канта, неразрешимая для человеческого разума проблема. Есть возможность только проследить, как этот мотив действует в душе человека. Механизм долга – уважение к нравственному закону и достоинству человека, поскольку он обладает автономией воли и творит этот закон из себя. Уважение к моральному закону и есть моральное чувство; оно не предшествует моральному закону и не вытекает из него, оно означает, что сам нравственный закон и есть мотив, в силу которого закон и реализуется.
Понятие “уважение”, присоединенное к двум другим понятиям – “необходимость поступка” и “закон”, – дает определение долга, по Канту, как “необходимости поступка из уважения к закону”.
Этический ригоризм[2] Канта, смягченный в неокантианстве, был подвергнут критике почти во всех последующих оригинальных этических системах.
Так, по мнению А. Шопенгауэра, учение Канта о долге логически ошибочно: выводить долг из абсолютной необходимости нравственного закона – значит предвосхищать основания, а пользоваться понятием безусловного долженствования – значит впадать в противоречие определения. Шопенгауэр полагает, что императивную форму морали Кант заимствовал из теологической этики и именно поэтому был вынужден задним числом обратиться к постулатам бессмертия души и существования Бога. Главный аргумент Шопенгауэра состоит в том, что для понимания метафизической, простирающейся в вечность этической значимости поступка совершенно несущественно, чтобы мораль имела форму повеления и повиновения, закона и обязанности.
И. Г. Фихте обосновывает абсолютную независимость нравственности от чего-либо другого, кроме “Я”; он развивает систему этического идеализма, в рамках которого моральное существование рассматривается как бесконечный процесс эмансипации (освобождения от какой-либо зависимости), а чувственный мир – как сфера воплощения безусловного долга.
Коммунистическая этика (К. Маркс, Ф. Энгельс) видит в императивности морали выражение ее отчужденности от реальных индивидов, полагая, что конкретная общность людей в форме коммунистического братства снимает их абстрактную общность, задаваемую надличностными нормами.
Ф. Ницше считал, что человек разрушается тогда, когда он действует без удовольствия, как автомат долга, что народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ницшеанский сверхчеловек не приемлет императивности морали, у него нет другого долга, кроме собственной воли к власти.