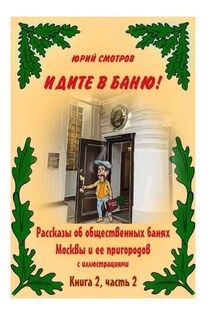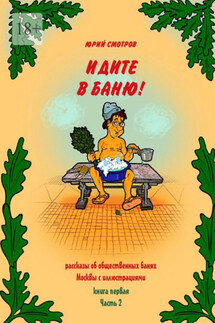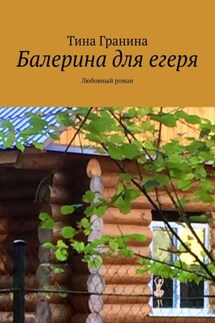Детство босоногое моё - страница 7
Говорили фронтовики и о занятных изделиях, увиденных ими в чужих странах.
– А что, мужики! И в нашем селе стало жить легче! Смотрите: в лодках уже не гребём вёслами – моторы; огород руками не поливам – опять же моторы, и ветряков почти не осталось; до города – на «Ракете» – час делов! Бабы руками тоже меньше доить стали – опять же машинное доение! – говорил мой дядька-танкист, а теперь – колхозный рыбак-моторист, мастер на все руки и большой специалист-самородок по ДВС (двигателям внутреннего сгорания). У него даже циркулярка (дисковая пила) работает от ДВС.
– Всё верно, Пётр Максимыч! Что ни говори, а город стал нам ближе!
– Давайте выпьем за человека, который додумался поставить лодку, то есть судно, на подводные крылья. Смотри, лодка висит над водой, корпусом воды почти совсем не касается! Поэтому и скорость приличная – почти до ста километров в час! И ни пыли тебе, ни запаху! Одни только брызги за кормой! – поддерживал моего дядю сосед-фронтовик.
– А всё же очень долгий путь проходят изобретения до реального внедрения! Почти век, а то и два! Изобретатель за всю свою жизнь так и не увидит своё детище в практическом действии! И это так не только в технике! Возьмите литературу! Ведь современники не оценили по достоинству ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя, ни Достоевского! Потребовалось полтора-два века, чтобы по-настоящему оценить их бессмертные творения! – ввертывал в общий разговор учёную мысль об искусстве директор местной школы, тоже фронтовик с ранением, как-то случайно оказавшийся около костра.
– Да! Пушкин был человек! – говорил, как приглашение к тосту, мой отец – военный шофёр, воевавший и в Монголии на Халхин-Голе, закончивший уже в зрелом возрасте восьмилетнюю вечернюю школу. Им, фронтовым людям, участвовавшим во всех передрягах страны, не удалось получить нормального, систематического образования. Но их, исколесивших пол-Европы по фронтовым дорогам, партия ставила на ответственные посты по восстановлению народного хозяйства страны, разрушенного войной. Недостаток знаний компенсировался жизненным опытом, умением работать с людьми, чему ни в каких институтах не научиться!
Редко им удавалось вот так собраться за ухой и вспомнить былое, помечтать о будущем:
– А что, Савелич! – бывало, скажет мой дед-кавалерист, захвативший обе войны, гражданскую и с Гитлером. – Сейчас вон появились транзисторные радиоприёмники. Удобно! Взял его на лодку, включил: сам работу делаешь, а он тебе все последние известия сообщает… Только батарейки быстро кончаются! В сельпе их нет. Приходится в городе заказывать! А так удобно! Вот плохо, что телефон в селе, в сельсовете, только один. Вот придумали бы телефон без проводов! На фронте ведь были уже рации! А сейчас, говорят, дорогое удовольствие!
Не дожили деды, фронтовой народ, до нашего времени, когда сотовый телефон у каждого школьника, почти в каждой квартире компьютер. И интернет уже не роскошь!
К костру подходит дядя Ваня. Он только что вылез из моторного отделения колхозного баркаса. В одних сатиновых чёрных трусах. На его груди выколот огромный, синий орёл с широко развёрнутыми крыльями. В когтях хищной птицы девушка. Наколка выполнена качественно, выделены самые мелкие детали. На дяде Ване ни одной лишней жиринки, под тонкой кожей виден каждый мускул, путаными верёвками выделяются кровеносные сосуды. Когда дядя Ваня двигается или просто размахивает руками, наколка оживает: орёл взмахивает крыльями, и пленённая девушка пытается освободиться из цепких когтей птицы. – Это мне в плену, в концлагере выкололи. Один пленный художник. Работали в каменоломнях у немцев. Потом бежал. Не поймали, – говорит дядя Ваня и вспоминает названия немецких поселений, через которые его протащила война.