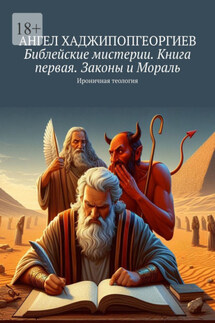Деятельный ум - страница 43
Культурно-историческая теория и есть дальнейший шаг по тому же пути. «Стоит только вспомнить социальную природу и происхождение всякого культурного знака, чтобы понять, что психологическое развитие, рассматриваемое с этой точки зрения, есть развитие социальное, обусловленное средой. Оно прочно вводится в контекст всего общественного развития и раскрывается как его органическая часть» (Выготский, Лурия, 1993. С. 21). Это цитата из предисловия к «Этюдам по истории поведения» – известной книге 1930 года, в переписке Выготского фигурирующей под именем «Обезьяна» – по первому слову подзаголовка: «Обезьяна. Примитив. Ребенок»).
Поворот к новому пониманию начался с опытов ученика Выготского Л.С.Сахарова, направленных на изучение природы тех собственно человеческих связей и отношений, которые формируются благодаря «экстрацеребральным», социально-культурным предметам, в частности знакам. В ходе эксперимента (методика Сахарова общеизвестна, и мы на ней не останавливаемся) выяснилось, что необходимо ввести еще одно, принципиально важное допущение по сравнению с «классическим» культурно-историческим подходом. А именно: знак не просто психологическое орудие; он влияет на изменение процессов мышления и обобщения не одним лишь своим присутствием, а и своей сущностью. Мало выяснить, как употребляется знак: необходимо установить, какое у него значение. Как оно возникает, формируется у ребенка, вообще как появление и изменение значения (а не просто знакового опосредования) влияет на психику человека.
Если в 1927 году Выготский записывал в своей записной книжке: «Сущность инструментальной методики в функционально разном употреблении двух стимулов, по-разному определяющих поведение» (Выготский, 1977. С. 91), то всего через два года, в 1929 году, позиция меняется: «Между чем и чем вдвигается знак: между человеком и его мозгом» (Выготский, 1986. С. 57). Знак нужен не для того, чтобы человек действовал иначе, а чтобы он сам был другим, и тогда он будет действовать иначе. «Раз человек мыслит, спросим: какой человек <…>. При одних и тех же законах мышления <…> процесс будет разный, смотря по тому, в каком человеке он происходит» (С. 9).
«Павлов сравнивает нервную систему с телефоном, но все своеобразие психологии человека – в том, что в нем в одном существе соединены телефон и телефонистка <…>. Телефонистка – не душа. А что? Социальная личность человека. Человека как члена определенной общественной группы. Как определенная социальная единица <…>. Реальная история телефонистки (личности) – в истории Петра и Павла (ср. Маркс: о языке и сознании)