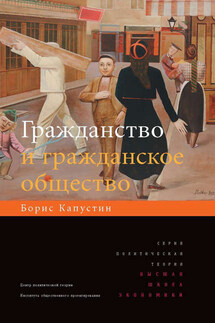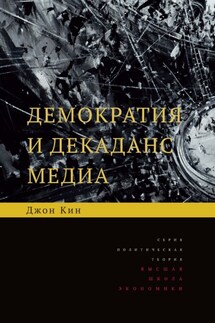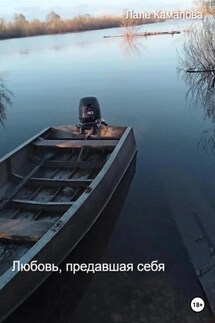Дискурсивный разлом социального поля. Уроки Евромайдана - страница 4
В теории популизма Лаклау, на которой основана часть анализа, представленного в данной книге, «народ» появляется тогда, когда одно неудовлетворенное социальное требование[1] объединяется с другими требованиями и когда эти требования «эквивалентно» объединяются, чтобы противостоять установленному порядку. Эта цепочка различных, а иногда даже несоизмеримых претензий эквивалентна только в одном смысле: по отношению к тем, кто исключен из популистского коллектива, именуемого «народ». Как правило, исключенным в популизме является «антинародный режим»; иногда, как в случае с Евромайданом, в «инородцы» попадают и «прислужники режима». Так или иначе, но исключение «инородности» является условием, приводящим к появлению «народа» и возникновению популизма.
Согласно Лаклау, любая популистская идентичность требует названия, которое служит «клеем» для дискурсивного объединения разнородных элементов невозможного, но необходимого целого. Таким образом, имя популистской идентичности «становится чем-то вроде пустого означающего», играя центральную роль в обеспечении единства и идентичности популистского коллектива. Это пустое означающее может стать «плавающим», если оно будет связано с альтернативными цепочками эквивалентности, организующими альтернативные дискурсы. Поскольку любая совокупность разнородных элементов может быть «склеена» только общим названием (пустым означающим), и поскольку «крайняя форма партикулярности – это индивидуальность», популистское сообщество часто идентифицируется с именем своего лидера [Laclau, 2005, p. 100].
По мнению Лаклау, процесс «наделения» одного конкретного означающего смыслом «мифической полноты» немыслим без «аффекта» – момента «наслаждения» [Ibid., p. 101–115]. Когда появляется «народное требование», эмоционально сформированное из множества неудовлетворенных требований, возникает внутренняя антагонистическая граница, отделяющая институционализированную систему от народа. Происходит дихотомический разлом, обусловленный использованием привилегированных означающих «режим», «олигархия» и т. п. – для обозначения совокупности «порочного другого» (и его приспешников), а также «народа», «нации» и т. п. – для обозначения «хороших нас».
Лаклау считает, что любой политический проект в известной мере является популистским, что, однако, «не означает, что все они в равной степени популистичны: это зависит от расширения цепи эквивалентности, объединяющей социальные требования» [Laclau, 2005, p. 154]. Чем длиннее цепочка, тем она инклюзивнее. Как объясняет Янис Ставракакис: «При инклюзивном популизме дихотомизация политического пространства организована в основном вертикальным образом (вверх/вниз, вверх/вниз), в то время как исключающий популизм предполагает горизонтальную (внутреннюю/внешнюю) дихотомию» [Stavrakakis, 2017, p. 530]. Обычно инклюзивность свойственна левопопулистским партиям и движениям, а эксклюзивность является отличительной чертой правопопулистских сил [Mudde, Kaltwasser, 2013].
Согласно Лаклау, тотальность возникает в том случае, когда конкретная частность (партикуляризм), понимаемая как конкретное требование конкретной группы людей, преподносится в качестве репрезентации множества других требований, объединенных эквивалентно, являя собой, таким образом, их единство, которого на самом деле не существует. При этом, выполняя объединяющую гегемонистскую функцию, эта частность (партикуляризм) теряет бо́льшую долю своей специфичности и «становится чем-то вроде пустого