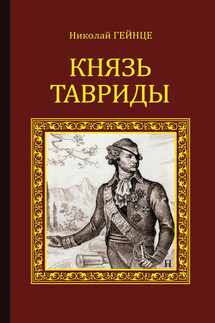Дочь Великого Петра - страница 59
Юноша опустил голову. Он почувствовал, что в настоящую минуту он ничего более не добьется. Он, конечно, знал раньше, что встречи с матерью прекратятся с возвращением его в корпус. Отец дозволил переписку, это была милость, на которую он не смел даже надеяться.
XXI. Честное слово
– Я скажу это матери, – ответил Осип Лысенко убитым тоном. – Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу открыто идти к ней.
Иван Осипович остолбенел. Он совершенно не подумал о возможности такого вывода.
– Когда же ты хочешь видеться с нею?
– Сегодня же у пруда. Она, наверное, уже там.
Иван Осипович боролся сам с собою. Что-то в глубине души предостерегало его, убеждало не допускать этого свиданья, и в то же время он сознавал, что было бы жестоко запретить его.
– Вернешься ты через два часа? – спросил он после довольно продолжительной паузы.
– Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.
– Так иди, – сказал он с глубоким вздохом.
Очевидно, ему было очень трудно уступить чувству справедливости и дать согласие на свидание.
– Как только ты вернешься, мы поедем домой: ведь и без того твои каникулы приходят к концу.
Мальчик, уже собиравшийся идти, вдруг остановился. Слова отца снова напомнили ему то, о чем он было совсем забыл в последние полчаса, – гнет ненавистной службы, опять ожидавшей его. До сих пор он не смел открыто высказывать свое отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собою всю его робость перед отцом, а с нею сорвалась и печать молчания с его уст. Следуя вдохновению минуты, он воскликнул и снова обвил руками шею отца.
– У меня к тебе просьба, – прошептал он, – большая, большая просьба, которую ты непременно должен исполнить; я знаю, ты согласишься, в доказательство того, что ты действительно любишь меня.
Между бровями Ивана Осиповича появилась складка. Он спросил с легким упреком:
– А, ты требуешь еще доказательств? Ну, посмотрим.
Сын еще крепче прижался к отцу. Его голос зазвучал той неотразимо-нежной лаской, благодаря которой отказать ему в просьбе было почти невозможно, а темные глаза выражали горячую мольбу.
– Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю дела, которому ты меня посвятил, и никогда не полюблю его. Если до сих пор я покорялся твоей воле, то лишь с отвращением, с затаенным гневом; я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел признаться тебе в этом.
Складка на лбу отца углубилась. Он медленно выпустил сына из объятий.
– Другими словами, ты не хочешь повиноваться! – произнес он жестким тоном. – А тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.
– Но я не могу выносить принуждений, – страстно возразил мальчик, – а военная служба не что иное, как постоянное принуждение, каторга! Всем повинуйся, никогда не имей собственной воли, изо дня в день покоряйся дисциплине, неподвижно застывшей форме, которая убивает малейшее самостоятельное движение. Я не могу больше переносить этого! Все мое существо рвется к свободе, к свету и жизни. Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на привязи: я задыхаюсь, я умираю.
Он не мог бы хуже защищать свое дело перед человеком, который был и душой и телом солдат. В последних неосторожных словах еще слышалась бурная, горячая просьба, рука Осипа еще обвивала шею отца, но тот вдруг выпрямился и оттолкнул его от себя.
– Я полагал, что военная служба вовсе не каторга, что быть военным – это честь! – резко ответил он. – Хорошо, нечего сказать, что мне приходится напоминать об этом родному сыну. Свобода, свет, жизнь! Уж не думаешь ли ты, что в шестнадцать лет имеешь право очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться всеми ее благами? Для тебя эта именно свобода была бы только распущенностью, твоей погибелью.