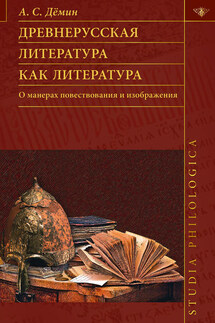Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения - страница 2
Образные описания поведения и свойств земных персонажей время от времени появлялись и здесь. Например, в апокрифах о Мельхиседеке этот персонаж родился из мертвой матери почти что взрослым («изыде отрокъ из мертвы Софонимы, и седяше на одре … и одеяние на нем … бяше отрокъ свершенъ телом, глаголаше усты своими … и славенъ взором» – т. 1, с. 27); а став взрослым, Мельхиседек превратился в почти что зверя («пришедъ въ чащу леса … нагъ … и хребетъ бысть, яко же лвина кожа; корьмля же его бе вершие дубное, а в воде место росу лизаша»)>5.
Все подобные описания людей и предметов составители апокрифов использовали тоже ради впечатляющей выразительности, но не страшности. Поэтому зрители этих чудес чаще удивлялись, чем устрашались.
Выразительные описания необычного поведения земных персонажей понадобились уже не для создания систематических «путеводителей», а вероятнее всего, для накопления отрывочных эпизодов человеческой истории под патронажем небесных сил, как разрозненные дополнения к Библии. Другого объяснения подыскать не удается.
Кроме выразительных эпизодов чудес в человеческой истории, в апокрифах существовала еще одна «история» – обыденная, бытовая. Упоминаний быта в апокрифах было немного. Изобразительность бытовых описаний достиглась иным способом: предметностью деталей, хорошо знакомых, как говорится, тысячу раз виденных читателями и поэтому мгновенно представимых, но на фоне чудесных событий. Так, апокрифы упоминают немало реальных хозяйственных предметов и домашних животных в благочестивых сюжетах (например, в «Откровении Авраама»: «напоихъ осла и положихъ ему сена» – т. 1, с. 34; в «Смерти Авраама»: «идете въ стадо, и приженете боровы, и заколите скоро, и сварите, да ядимъ и пиемъ… Налеи рукомыю воды, да умыю нози гостю сему»; а после «постла одръ … въжег свещу и постави на светиле» – т. 1, с. 80–81; в «Исходе Моисееве»: «вшед над реку волу, возмутися вода» – т. 1, с. 250; в «Завете Нефталимове»: «Солнце не сквернится, призирая на гнои и на калъ, но обое исушаеть и отгонить смрадъ – т. 1, с. 144).
Реальные хозяйственно-бытовые и природно-земные детали иногда проникали и во внеземной мир, внося свою лепту в выразительность описаний. Так, в «Хождении Богородицы по мукам» в аду «клокотаху, яко въ котьле, и, яко морьскыя вълны … въсхожаху» (т. 2, с. 26); в «Хождении апостола Павла по мукам» представали «ангелы … препоясаны златы поясы в чресла», а грешнику «волна огнена ударяше … в лице, яко буря» (т. 2, с. 42, 51); в «Откровении Авраама» небесный путешественник углядел «ту мужа нагы … и срамоту ихъ» (т. 1, с. 48). Но особенно любопытно «Слово на Лазарево воскресение» (краткой редакции, по определению М. В. Рождественской), где Давид сидит в аду, как в некоем звукопроницаемом помещении: «рече Давидъ … седя в преисподнемъ аде: “Уже бо слышно – пастыри свиряють у вертепа, а глас ихъ проходитъ адова врата, а в мои уши приходитъ; а уже слышю топотъ ногъ перскых конеи…”»>6.
Причина ненавязчивого проникновения бытовых мотивов в апокрифы оказывается фундаментальной. Ведь в основу всех изобразительных описаний в апокрифах, куда ни посмотришь, легла обыденная земная жизнь, но преобразованная авторской фантазией различными способами, из которых главным было сосредоточение составителей на необычных предметных деталях, на необычных действиях и на необычных качествах описываемых объектов. В результате, хотели того авторы или нет, апокрифы изображали три параллельных мира – страшный внеземной мир, удивительный земной мир, контактирующий с небесами, и менее заметный мир приземленный, контрастный чудесам. Так благодаря поэтике необычности появились «кирпичики» изобразительности и элементы образности с самого начала литературы Древней Руси.